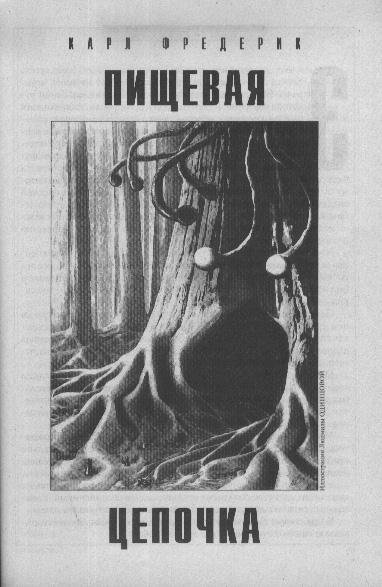Обещанный сногсшибательный эпизод «секса в космосе», впрочем, вышел вполне умеренным. Единственная, кстати, сцена, не вызывающая вопроса: что нам все-таки демонстрируют — пародию (хотя и очевидно бездарную) или это всерьез?
Как уже было сказано, по моему убеждению, последний роман Айтматова — творческая неудача классика, ощутившего в себе явные позывы предстать миру пророком-гуру. А то, что книга может послужить основой для ТАКОГО кино, лучшее тому подтверждение.
Хотя, конечно, писателя каждый режиссер может обидеть[25].
* * *
Ну и, наконец, экранизации уже новой фантастики. Той самой, которая для меня все еще остается P.S., - постскриптумом к старой, которую я знал и любил.
Объективно мы имеем две удачи — по крайней мере в том, что касается спецэффектов и, как следствие, зрительского успеха. Речь, как нетрудно догадаться, идет о кинодилогии режиссера Тимура Бекмамбетова по произведениям Сергея Лукьяненко. О двух «Дозорах» на страницах «Если» писали не раз, поэтому ограничусь лишь собственными оценками.
Честно скажу, лично меня не слишком воодушевила мистическая история противостояния Темных и Светлых в хорошо знакомой постперестроечной Москве. Но снято действительно впечатляюще. Пока далеко до технического уровня сегодняшнего западного фантастического кино, но для наших палестин вышло вполне сносно. Как говаривал почивший в бозе телеперсонаж Хрюн: «Внушаеть». Рисовать компьютером какую угодно фантастическую реальность наши кинематографисты научились.
Да и сюжеты строить тоже. Правда, для зрителя, не читавшего романы Лукьяненко, многое в фильме останется ребусом — тем более что картину и так предельно облегчили по сравнению с романом, и многие сюжетные линии попросту оказались выброшены, образовав логические и смысловые лакуны. И что особенно раздражало, так это беспредельная рекламная кампания ОРТ, вложившегося в постановку картины и не знавшего удержу в том, что сегодня элегантно называется product placement. Постоянно вспоминалась пародия на поэта Рождественского, как известно, заикавшегося и писавшего стихотворения на «каждую новую открытую домну»: «Н-н-но есть же п-п-предел, б-б-братцы!».
Как бы то ни было, фильмы удались. Чего не скажешь о трех других фантастических боевиках с уже освоенной компьютерной графикой. Фильм «Асирис Нуна» (2006), поставленный по роману того же Лукьяненко (в соавторстве с Юлием Буркиным) «Сегодня, мама!», живо напоминающий компьютерную игру, еще можно смотреть без раздражения, уговаривая себя, что, мол, это детская фантастика, чего придираться, А вот «Запрещенная реальность» (2009) и «Скалолазка, или Последний из Седьмой колыбели» (2007) вызывают недоумение.
Впрочем, с первой лентой все было ясно еще до ее появления на свет. Раз собираются экранизировать боевик Василия Головачева, то на экране с почти стопроцентной вероятностью и появится боевик Головачева — со всеми, как говорится, вытекающими… То есть всё выйдет круто, динамично, многозначительно и не слишком логично. Будет и супермен — «смершевец» недалекого будущего (с момента выхода романа «Смерш 2» уже ставшего настоящим), открывающий в себе сверхспособности, и таинственный надмирный Внутренний Круг Хранителей, наблюдающий за борьбой Добра и Зла. Будут и мысли, поражающие оригинальностью и глубиной: о том, к примеру, что путь к Свету открывает Любовь. Всё, разумеется, с заглавных букв, роль которых в фильме играют заведенные горе глаза актеров и интонация, с которой произносили свои монологи герои экранизации «Туманности Андромеды» (см. мой предыдущий обзор). Плюс компьютерная графика.
У Василия Головачева есть свой круг читателей. Это факт нашей литературной действительности, как бы к нему ни относиться. Однако кинопроизведение — другой вид искусства, и делать из него подстрочник, значит, обманывать зрителя.
В этом смысле фильм, снятый по мотивам «Скалолазки» Олега Синицына, вышел даже почти безобидным. Получился эдакий бюджетный вариант «Индианы Джонса». Гонки по всему свету (при российских бюджетах — по доступным странам Ближнего Востока с эпизодическим заездом в замок в Альпах) «плохих парней», работающих на «мировую закулису», за «хорошей девочкой» — русской, комсомолкой, спортсменкой, отличницей.
В ее руках оказался артефакт загадочных Перволюдей, оставивших человечеству спасительную «лонжу» — на случай, когда последнему станет уж совсем невмоготу. Немножко туристской экзотики на уровне турецкого «все включено», толика юмора за счет местного гида-напарника, соль и перец по вкусу. То есть сцена восточного массажа, во время которой героиня имеет возможность продемонстрировать, чем, так сказать, богата от природы, а также работа каскадеров. И в финале — «раскрытие космического цветка», посрамление Дмитрия Ногиева с его бандой террористов и всеобщее спасение, счастье и процветание (кажется, даже и бессмертие) в перспективе. Помогли наши гипотетические «перволюди», не подкачали — и теперь, стало быть, заживем!
Большой вопрос, в какой мере можно благодарить за эти экранные полтора-два часа автора, а в какой — постановщиков фильма. Но то, что подобное кинотворчество нынешняя публика смотрит — и, видимо, будет смотреть, — у меня вызывает тоску, близкую к отчаянию. Раньше хоть ссылались на отсутствие денег и технической базы, а сегодня и того, и другого хватает, так почему же художественная беспомощность и смысловая нищета проступают еще более отчетливо?
* * *
Ну и финал — тот самый P.S. Точнее, фильм Виктора Гинзбурга «Generation П» по роману «культового» автора Виктора Пелевина. Пишу «культовый» в кавычках, потому что каково время, таковы и культы… То, что картина не пройдет незамеченной, было очевидно, и насколько можно судить по рецензиям в Сети, мнения зрителей разделились: одни считают, что на экране от романа не осталось почти ничего, другие, напротив, полагают: получился идеальный кинематографический «спойлер».
Не могу судить, потому что Пелевина не читал с тех самых времен, когда из яркого, оригинального и ироничного автора абсурдистско-прикольной фантастики в духе, скажем, Воннегута, он превратился в мистификатора, поклонника Кастанеды и соответствующей питательной галлюциногенной флоры, гуру и пророка. Зато фильм посмотрел. И удивительное дело: нет слов. В смысле — сказать ничего определенного не могу. При всем желании.
Сам галлюциногенами не баловался, поэтому не могу судить, так ли это всё, как показано в фильме, С другой стороны, рекламу тоже не люблю, воспринимаю предельно серьезно — как одну из кар египетских, насланных на человечество. Точнее, им же и созданных. Многое в фильме смешно и остро подмечено, другие сцены и эпизоды, посвященные «лихим девяностым», производят впечатление фальши (впрочем, объяснимой: режиссер тогда жил не здесь, а в Америке). А в целом — художественное произведение, адекватное миру начала XXI века. То есть клип. И больше ничего. Пелевин и пустота….
Не сомневаюсь, что у картины немало поклонников. И фильм получит премии на кинофестивалях и заработает своим создателям соответствующие баллы. У меня же во время просмотра не выходили из головы перефразированные строки из Томаса Эллиота: «Вот как кончится мир — не взрывом, но клипом».
Проза
Карл Фредерик
Пищевая цепочка
Иллюстрация Людмилы ОДИНЦОВОЙ
Эллиот жадно смотрел, как Борис выключает замедлитель Хиггса и начинает картографический облет планеты, которую они окрестили Незабудкой. Оттолкнувшись одной рукой от внутренней стенки корпуса, он обнаружил, что хотя был по-прежнему невесом, масса у него уже появилась — уравнение f=ma снова имело смысл. Он проскользил к своему месту и, не отрывая глаз от обзорного экрана, пристегнулся к креслу. Куда только подевались все эти так раздражавшие его мелочи, которые постоянно грозили перерасти в открытую войну: Марк, указывающий всем, что делать, только потому что он капитан; ломаный английский Бориса; аристократический английский Марка и соответствующая манера себя вести; непоколебимая уверенность Бориса в том, что против ферзевого гамбита следует использовать защиту Нимцовича; насмешки Марка и Бориса по поводу его вегетарианства.