7 июня, вдоволь накануне наохотившись, мы уже снова вьючились при веселой болтовне о предстоящей нам трудной дороге через перевал Цитерты. Подъем на него действительно очень крут и бежит прямой узкой щелью, по дну которой, загроможденному острым щебнем, каменными глыбами, валежником и стволами елей, сочится ручей. Несмотря на постоянное движение по этому перевалу, дороги в этой щели нет. Каждому предоставляется поэтому карабкаться, как ему вздумается, что он, конечно, и делает, беспрестанно останавливаясь, для того чтобы стереть с лица выступающую испарину и отдышаться немного… Но, несмотря на все свои трудности, перевал этот, не знаю как нашим бедным животным, но нам не показался особенно неприятным.
Чистое небо, легкий свежий ветерок, всюду что-нибудь новое и необыкновенное: то величественное зрелище диких, отвесных скал метаморфических сланцев, до последнего предела сжимающих щель и придающих ей вид какого-то гигантского, но вместе с тем сырого и мрачного коридора; то, как контраст, веселый уголок альпийского луга, усыпанного цветами, всего залитого солнцем и оттененного темной каймой елового леса; то, наконец, этот лес, спустившийся в щель и загромоздивший стволами павших собратий путь до того, что среди них едва пробираешься… а затем, пожалуй, и впервые для многих из спутников наших явившаяся наконец возможность вполне ознакомиться с характером передвижения по самым диким горным ущельям: ведь тут, что ни говорите, новое дело, много труда, много суеты и хлопот, за которыми и не видно дороги; много таких ощущений, которых не знаешь, как передать, но которые бодрят человека вселяют в душу его стремление к преодолению всяких препятствий… Не знаю, горный ли воздух действует столь возбуждающим образом, поэтическая ли обстановка страннической жизни в горах или, наконец, влияние необыкновенных красот альпийских и вообще горных ландшафтов, но факт тот, что в горах мы чувствовали себя всегда бодрыми и веселыми, и хотя подчас и слышались из нашей среды восклицания: «Ну и дорожка… будь она проклята!..», но в восклицаниях этих не проскальзывало и тени нетерпения или какой-нибудь сосредоточенной злобы именно на эту дорожку…
Впоследствии, конечно, впечатления горных видов стали менее живы, к воздуху альп мы попривыкли, а потому и восклицания вроде только что приведенного между нами слышались реже; но тогда, в эти первые дни путешествия, помню, как теперь, в нас было столько энтузиазма, мы испытывали столько восторгов при виде всего проходимого, что, я думаю, будь дорога и вдвое труднее, мы бы того не заметили… Даже наш переводчик, текесский калмык, половину своей долголетней жизни проживший в горах, и тот, возбужденный весенним горным воздухом и общим оживлением, забыв свои годы, шел походкой, какой ходил разве лет двадцать назад.
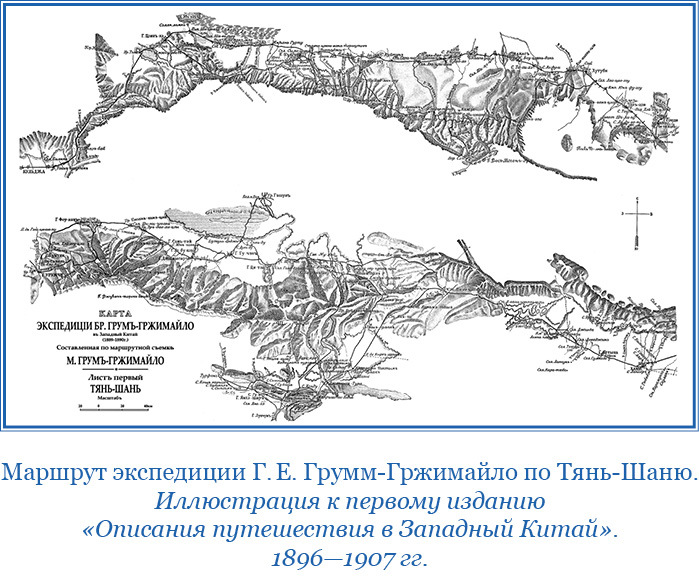
Но вот, наконец, мы и на перевале Цитерты или Ачал (8488 футов, или 2591 м абс[олютной] выс[оты, т. е. над уровнем моря]). Это – высокая луговая покатость, с одной стороны круто спускающаяся в ущелье как в бездонную пропасть, из тумана которой выступают поросшие еловым лесом круглые сопки, с другой – примыкающая к лесистым холмам, венчающим отрог главного кряжа. А рамкой этой картине служат отовсюду уходящие ввысь и как бы закутанные полупрозрачным туманом сизо-красные скалы центрального массива. И так и кажется, что тот кусочек земли, который стелется у нас теперь под ногами, и все эти окрестные пики, принявшие совершенно фантастическую окраску и формы, как бы взвешены в воздухе и плавают в море тумана… Картина, поражающая своим великолепием и не могшая, конечно, не произвести на нас чрезвычайного впечатления! И киргиз-проводник это заметил, но понял по-своему наш восторг. Он широко улыбнулся, обвел рукой вокруг себя, точно показывая на необъятное пространство окрестной земли, и радостно объявил: «Джайлау!», что, собственно, значит только – пастбище, выгон; но в глазах киргиза это и есть, без сомнения, лучшая рекомендация местности.
Сделав несколько неудачных выстрелов по суркам, мы спустились, наконец, с перевала Ачал, сложенного, как кажется, преимущественно из метаморфических сланцев, к слиянию двух истоков реки Боростая – Кур-карагая и Тогур-су и заночевали на том месте, где некогда стоял русский казачий пикет (урочище Ачал).
Ковка на этом переходе расковавшихся лошадей отняла у нас на следующий день так много времени, что первый эшелон вьюков тронулся в дальнейший путь только в исходе восьмого часа утра. Это было уж слишком поздно, так как на сегодня нам предстоял почти немыслимый для вьюков переход – несколько менее восьмидесяти километров. Уже теперь было ясно вполне, что до Цзин-хэ, куда мы стремились, мы могли добраться в лучшем случае только через восемнадцать часов непрестанного хода; иначе сказать, что последние километры нам предстояло брести уже ночью с риском не только сбиться с пути, но и вконец подорвать силы наших вьючных животных.
– Да неужели же дорогой негде остановиться?!
– Выспрашивали мы их, ваше благородие, да орда[16] говорит, что негде: воды нет, корму нет, все песок да камни… настоящая, говорят, тут «гоби»[17] пойдет.
– Да, может, быть в стороне…
– И в стороне нет ничего. Щелью дорога, а выйдем из гор, гоби, почитай, до Цзин-хэ.
К сожалению, «орда» сообщила нам совершенную правду. Мы, действительно, сразу же втянулись в дикое ущелье, сложенное из мощных толщ известняков и известковистых сланцев, по дну которого шумным потоком неслись прозрачные, как хрусталь, воды р. Боростая.
На первых, впрочем, порах ущелье это все же оживлялось довольно разнообразной кустарной и древесной растительностью, узкой лентой гнездившейся в береговых валунах и местами даже образовавшей здесь смешанные рощицы из тополей, березы и ивы, с густым подлеском из разросшихся тут же кустарников лозы, шиповника и караганы, но затем серый камень заполнил решительно весь, впрочем очень здесь ограниченный, горизонт. Сперва известковисто-сланцевые, высокие, почти отвесные серые стены, затем такие же серые конгломераты, серый щебень и песок под ногами, даже ставшая дальше грязно-серой вода Боростая, – все это после вчерашних ландшафтов и ярких цветов казалось нам уже очень мертвым и однообразным. К тому же дорога становилась плохо наезженной и чересчур каменистой, мосты еле держались и были так плохи, что приходилось их настилать раньше, чем по ним по одному проводить наших животных. А это так утомляло людей, что уж с двух часов пополудни в нашем отряде стало как-то особенно тихо и все разговоры сами собой прекратились – все с нетерпением стали уже ждать конца только что начавшейся длинной дороги…
Тут же, как назло, одна напасть стала сменяться другой: при переправе через Боростай утонул козел, взятый нами вожаком к стаду баранов, – его как-то мигом скрутило, поднесло под корягу и защемило среди каменных глыб; далее сквозь мост провалилась одна из лошадей, несшая сундуки, – сундуки подмокли, лошадь же удалось вывести из реки без вреда; затем одна за другой стали расковываться наши вьючные лошади – по щебневой дороге это большая беда, так как долго ли здесь любой лошади обезножить! И едва успели мы справиться с ковкой двух лошадей, как впереди встретилась опять какая-то остановка, – на этот раз случай, едва не стоивший нам жизни, – вьючка. На обходе глубокой и почти вертикально спускавшейся к реке водомоины узкий карниз вдруг рухнул под первым вьючком, и лошадь только путем невероятных усилий успела удержаться на тропинке, проложенной киргизским скотом несколько выше караванной дороги. Кое-как, при помощи топора, лопаты и всего, что их могло заменить, выбрались мы, наконец, и из этой беды, но свободно вздохнули только тогда, как нарушенное движение каравана снова восстановилось.
Но вот и устье ущелья! Перед нами степь, столь страстно теперь желанная, но безбрежная, каменистая степь, совершенная пустыня, если не считать тощих кустиков хвойника и саксаула, которые кое-где торчат в стороне от дороги. Картина очень унылая, нагнавшая на нас тем скорее тоску, что тут же мы натолкнулись на тяжелое зрелище: шест, клетка и в ней голова человеческая, – зрелище, доказывавшее нам, что мы снова приближаемся к черте китайской оседлости…