«Уважай закон и научи уважать его своим примером: закон, пренебрегаемый Царем, не будет храним и народом. Люби и распространяй просвещение: оно — сильнейшая подпора благонамеренной власти: народ без просвещения есть народ без достоинства; им кажется легко управлять только тому, кто хочет властвовать для одной власти, — но из слепых рабов легче сделать свирепых мятежников, нежели из подданных просвещенных, умеющих ценить благо порядка и законов. Уважай общее мнение: оно часто бывает просветителем Монарха…
…мысли могут быть мятежны, когда правительство притеснительно или беспечно; общее мнение всегда на стороне правосудного Государя. Люби свободу, то есть правосудие, ибо в нем и милосердие Царей и свобода народов; свобода и порядок — одно и то же; любовь Царя к свободе утверждает любовь к повиновению в подданных. Владычествуй не силою, а порядком: истинное могущество Государя не в числе его воинов, а в благоденствии народа… Уважай народ свой: тогда он сделается достойным уважения. Люби народ свой: без любви Царя к народу нет любви к Царю…»
Такое вот наставление для Монархов преподнес сын турчанки-рабыни императорскому двору…
Подготовка к обучению Наследника отняла у Жуковского много сил, и когда подошло время начинать курс, ясно стало, что сперва надо ему отдохнуть и серьезно заняться своим здоровьем. Лечились тогда люди не бедные за границей — на немецких, швейцарских или французских курортах. Жуковский отправился на воды в немецкий Эмс. Там и произошло у него знакомство, которому суждено было сыграть важную роль в этой второй половине его жизни.
12 мая 1826 года он тронулся в путь морем из Кронштадта — на Запад. Навстречу судьбе…
Часть вторая
Высокий строй
Глава 1
Однорукий гусар
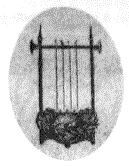
В углу трактирной залы послышался внезапный стук, потом заскрипел стул. Хозяин Шольц поднял голову. Ничего страшного — упала трость. Потом, наверное, русский господин сдвинулся на стуле. Нет, все-таки что-то случилось, потому что русский теперь не смотрел в газету, а глядел прямо перед собой, будто и не видя. Снова заскрипел стул под тяжелым его телом: русский долго возился, наконец вытащил из кармана платок, вытер глаза. Хозяин поторопился принести заказанный кофей. Поставил его осторожно на столик рядом с газетой, потом поднял с полу трость, положил рядом на стул. Русский господин все еще смотрел перед собой невидящим взглядом. Не сказал ни слова. Было на него не похоже, на редкость любезный и добрый господин: никогда не считает мелочи, не скажет грубого слова, смотрит всегда приветливо, и главное — не сверху вниз, а вровень, это герр Шольц научился чувствовать давно, еще когда не был хозяином трактира, а только подметал в нем полы, колол дрова и носил угли. Полы он, впрочем, и теперь подметал сам, но давно уже был хозяином, имел хороших постояльцев и мог бы сам просидеть весь день с газетой и кофеем, так что взгляд он всегда чувствовал и понимал, а этот вот большой и важный господин никогда не глядел сверху, он словно бы, напротив, всеми силами избегал этого, потому, наверное, вставая в рост, и нагибал голову, точно хотел бодаться…
Хозяин помедлил у его столика, сказал: «Битте шон», вернулся к своим делам, а любезный русский господин снова ничего не ответил, зашелестел газетой, долго возился со своим платком, утирал глаза, сморкался, а потом вдруг исчез с глаз… Хлопнула входная дверь — значит, ушел не простившись. Что-нибудь, наверное, случилось. Непременно что-нибудь случилось, у богатых людей тоже бывают беды, может, даже беда пришла из газеты — утром он был веселым, этот русский господин, пошутил с Кэтхен, сказал Шольцу про погоду. Хозяин подошел к столику забрать непочатый кофей и нагнулся над газетой — буквы были чужие и непонятные, похожие на кресла и ширмочки: русские буквы. Зачем читать по-русски, если они все так понятно говорят по-немецки и вдобавок знают еще французский, зачем им мучиться с трудным языком, когда есть полегче? Иногда они называли Шольца по-своему: трактир-тш-тч-ик, и он всегда удивлялся, как это можно образованному человеку произнести такое слово?..
Полный русский господин шел по узкой уютной улочке Эмса, не видя его кокетливых и добротных витрин, не замечая прохожих, не чуя запаха свежих бротхен, которые нес в корзине булочник… Только на углу, у мясной лавки, заботливо украшенной сушеными цветами, — ах, трокенфлянц! — он вдруг помедлил секунду, а потом снова упрямо, но нетвердым еще после долгой болезни шагом продолжал свое шествие. Карамзин! Умер Карамзин! Злая весть, такая потеря, ко всему еще здесь, на чужбине, его настигшая, где разделить не с кем ее бремя… Ему казалось, что дома, в России, он воспринял бы ее по-другому, а здесь — такой удар, да и способ сообщения бездушный — газета, печатные строчки. Если бы хоть в письме — родная рука и слово утешения, горькое сотоварищество, симпатия, сколько сам он написал таких писем… Что же Тургенев, что ж Вяземский? — ни слова, будто не живы или стали чужие — нынче же написать, попенять. Да что пенять, когда надо плакать вместе. И Екатерине Андреевне написать нынче же; как странно — вдова, слово какое. Он снова пожалел, что его не было рядом, — чистая душа отлетела, умер друг, благодетель, гордость России, брат по старому братству и старший товарищ. Кому это здесь расскажешь, кто поймет вне России? Что, интересно, немецкие газеты пишут, может, есть какая-нибудь подробность?..
Он взошел на ступеньки трактира «Золотая пила» и прошел к заднему столику, где лежали газеты. Сухонький старичок медлил у стола в праздности, как бы не зная, на что употребить свой день и свое устарелое до времени тело. Жуковский видел уже давеча этого старичка в засаленном шлафроке, который с какой-то смесью гордости и смирения перед судьбой представился ему как полковник Густафсон. У него и сейчас был такой вид, будто он ждал вызова или оскорбления. В другое время Жуковский почел бы за лучшее уйти, не читая газет, но сейчас все было таким малым и неуместным. Он поздоровался только и спросил тихим голосом, который облагораживал и самые недостатки его немецкой и французской речи (спросил по-французски, конечно), можно ли взять газеты, прочитал ли их уже господин полковник.
— Неужели, если б я сам не прочел все газеты, я позволил бы вам их взять? — с непонятной обидой сказал полковник и, словно он был захвачен врасплох без дела, круто повернулся по-военному и зашагал вверх по лестнице, в одиночество своей каморки.
Жуковский, поднося к глазам газету, нащупал стул, присел и услышал над ухом торжествующий шепот трактирщика:
— Это Его Величество, король шведский.
— Где король? — рассеянно спросил Жуковский.
— Этот мнимый полковник. Бывший король, лишившийся своего…
Немецкие газеты не имели о смерти Карамзина никаких известий. Жуковский вышел на улицу, зашагал дальше, прочь от города. Величество. Величие. Ничтожество земных величий. Король-изгнанник. Засаленный шлафрок. Жалкая гордость бывшего повелителя…
Жуковский остановился перед витриной лавчонки, где выставлена была скатерть для чайного стола с изображением коронации венгерской королевы. Он усмехнулся, представив себе, как пузатый самовар разместится на королеве. Он вошел в магазин и купил скатерть — может, подарок этот порадует Елену Григорьевну Пушкину, бедняжка в такой грусти сейчас, после смерти мужа. Да она ли одна в грусти? Мы живем во времена испытании. У Екатерины Федоровны Муравьевой два сына и три племянника заключены в крепость, один убит под Васильковом (сегодня ей тоже написать, не откладывая!)…
Улица вдруг кончилась, зеленый луг поднимался к мосту, оттуда слышался шум водопада. Жуковский окинул взором дальний лес и полосу тополей вдоль тракта, вздохнул и взошел на мост. Здесь шум извержения водного был оглушающим. Жуковский оперся на перила и успокоился, завороженный зрелищем.