«Горькая правда» не заставила себя долго ждать:
Мадам, прегрешения мои таковы, что любой разумный человек легко найдет им оправдание, но для Вас я его не ищу — уж больно Вы темните; не сомневаюсь, что и дела свои Вы уладите; во всяком случае, я Вам того желаю; и, подбирая самые умеренные выражения, смею заверить Вас в том, что пути наши впредь не пересекутся, не будет ни дружбы, ни добросердечия, потому что не Ваше мнение важно для меня, а только самооценка.
Ваш покорный слуга.
Когда-то, на более ранней стадии любви, Рочестер провозгласил, что величием духа отличается она от остальных женщин в любви, да и во всем прочем тоже. Теперь же, когда разрыв уже фактически состоялся, он все еще пишет ей в три часа ночи, он все еще заклинает: «Гнев, сплин, позор и жажда реванша не возобладали еще надо мной в такой мере, чтобы я позабыл великую истину: я люблю Вас сильнее всего на свете». Он выводит все новые строки, дышащие едва ли не ненавистью:
Слава Б-гу, я могу еще различать вещи, о которых берусь судить; я вижу в Вас воплощение женской сути и на Вашем примере убеждаюсь в том, что никогда не ошибался, относясь к женщинам именно и только так, как я к ним отношусь. Для меня немыслимо проклясть Вас, но дайте же мне возможность сжалиться над самим собой; большей милостью Вы меня уже не одарите. Вы сильная личность и постоянно настаиваете на этом; беда в том, что Вы взялись доказывать это на моем примере. Вы великолепны в своем презрении (как и во всем остальном) и не даете спуску слугам, распространяя на них презрительную жестокость; Вы стараетесь ни на мгновение не сходить с раз и навсегда избранной стези — и скорее подвергнете Вашим пыткам меня, чем откажетесь от практики истязаний. С Вашей стороны было бы куда умнее (не говоря уж о справедливости и милосердии) распространять эту практику более равномерно, помещая в пыточную камеру всё, находящееся у Вас во власти, попеременно — то есть не отдавая безжалостного предпочтения никому и ничему. Восхищаясь Вами, я был бы рад последовать Вашему примеру, окончательно отказавшись от малейшей учтивости; но, поскольку я не способен на это, я готов принять Вашу логику и назвать белое — черным, а черное — белым; таким образом, я остаюсь в вечном долгу перед Вами (это не Ваш выбор, но он доставляет Вам огромное удовольствие, не правда ли?); Вам достаточно всего лишь обеспечивать меня все новыми поводами для того, чтобы не любить Вас более, потому что направить этот поток в противоположную сторону Вы не желаете и впредь не пожелаете уже никогда.
Если с началом любовных отношений с мисс Барри вполне сопоставима «Буколическая беседа», написанная в 1674 году:
Взгрустнется пастушку,
Влюбленному дружку… —
то процитированное выше письмо вполне можно соотнести со щемящими заключительными строками стихотворения «Покидая возлюбленную»:
Не то чтоб я, тоской томим,
Наскучил быть единственно твоим;
Но как мне, не смеша людей,
Назвать тебя единственно моей?
Тебя — кого склонить к постели
И богачи, и пустомели,
И четверть Англии сумели.
Красоток в Лондоне полно,
Которым, как давно заведено,
Единственного подавай —
И уж ему приуготован рай!
А ты, увы, сама свобода,
Ты равнодушна, как природа,
Добыча для всего народа.
Уместно вспомнить и о дочери — об «особе того пола, который я так ценю». При крещении ей дали то же имя, что и матери. Рочестер трепетно относился к собственным детям — и теперь, когда в распутстве мисс Барри уже не было оснований усомниться, он забрал у нее ребенка.
Мадам, я отнюдь не рад огорчить Вас, отбирая у Вас ребенка, но Вы сами вынудили меня принять это решение и поэтому не вправе жаловаться, хотя, казалось бы, сама природа восстает против моего невольного выбора; с другой стороны, смею Вас заверить, я так сильно люблю малютку Бетти, что она ни у меня, ни у моих домочадцев ни в чем не знает отказа; надеюсь, что уже в ближайшее время смогу возвратить ее Вам, причем еще более чудесной девочкой, чем когда-либо. А пока этого не произошло, Вам имеет смысл призадуматься над тем, что моя так называемая гордыня, оказавшись никудышной помощницей в моих собственных делах, будет Вам замечательным подспорьем в Ваших, если Вы, конечно, соблаговолите на нее опереться; а поскольку Вы, судя по всему, стремитесь только к тому, чтобы избежать огласки, постарайтесь и вести себя надлежащим образом.
Заключительные строки этого письма дышат такой решимостью и суровостью, что позднейший компромисс между родителями «малютки Бетти» представляется более чем сомнительным. О ней самой нам известно лишь, что она умерла в четырнадцатилетнем возрасте и была похоронена в Эктоне — там же, где еще несколько лет спустя нашла последний приют ее мать. В завещании Рочестер отписал «малютке по имени Элизабет Кларк сорок фунтов ежегодного вспоможения, выплачиваемого пожизненно со дня моей смерти, в обеспечение чего я закладываю особняк Саттон-Маллет». Скорее всего, речь здесь идет именно о дочери мисс Барри; куда с меньшим доверием следует отнестись к рассказу «капитана» Смита о некоей мадам Кларк, жестоко изнасилованной за год до кончины Рочестера.
VIII
Идиллический пейзаж
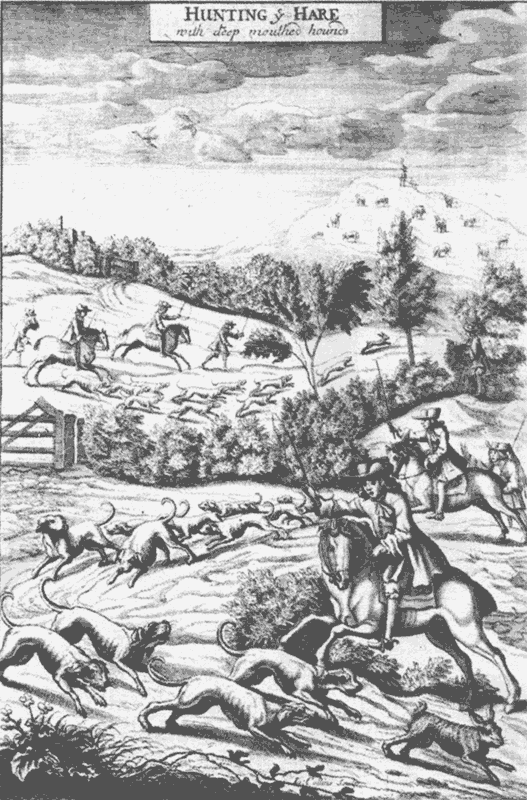
Мисс Барри, и мисс Робертс, и мисс Бутель жили в Лондоне и имели определенное отношение ко двору; деревня, напротив, скорее всего ассоциировалась для Рочестера с женой и детьми. В отличие от большинства светских людей, он не придерживался презрительного отношения к жизни в глуши, вкратце сформулированного сэром Робертом Балкли в письме к поэту: «Оставить Лондон для меня как умереть». Де Грамон, по свидетельству Энтони Гамильтона, называл деревню «каторжной галерой юности». Разбитые дороги, отсутствие развлечений (ни театра, ни борделя), косность и отсталость аборигенов, — тогдашний Оксфордшир отстоял от Лондона примерно на такое же расстояние, какое в наши дни разделяет Оркнейские острова и Эдинбург. В театральных комедиях того времени полным-полно сельских сквайров и их женушек, которые, приехав в Лондон, ужасают и потешают столичных жителей нелепыми нарядами и дикими манерами. Стэнфорд — персонаж из пьесы Шедуэлла «Горемычные любовники», — потерпев фиаско при дворе и вообще во всем Лондоне, выслушивает совет пожить в деревне: там он, мол, будет свободен. «Свободен! — горестно восклицает он. — Свободен напиваться допьяна мартовским пивом или вином хуже того, каким в дешевых кабаках запивают свиное рагу; свободен слышать конское ржание, собачий лай и соколиный крик».
Но Рочестер вырос в деревне; до приезда в Оксфорд он и в городе-то не был ни разу; и редкий год он не возвращался к себе в именье — пописать стихи, оправиться от болезни или просто поразмыслить над жизнью. В письме Сэвилу он признается, что только в деревне «человек может думать, потому что при дворе не думают вообще, а если и думают — то, подобно человеку, помещенному в барабан, только о грохоте палочных ударов, обрушивающихся на голову». К тому же время от времени ему было просто необходимо обуздывать «неутолимую жажду вина и женщин», о которой писал Натаниэл Ли, хотя эта жажда подчас накатывала на него и в деревне. В его последнем творении — модернизированной для нужд театра эпохи Реставрации версии флетчеровского «Валентиниана» — иные вписанные им строки носят явно автобиографический характер: