“Менталистская” картина мира вовсе не была целью основателей современной атомной теории. Напротив, они начали с противоположной точки зрения, и им пришлось перейти на современные позиции, чтобы объяснить результаты экспериментов.
Теперь мы можем свести воедино перспективы трех крупных областей науки: психологии, биологии и физики. Скомбинировав идеи трех выразителей различных взглядов, Сагана, Крика и Винера, мы получаем довольно неожиданную картину.
Во-первых, человеческий разум, включая сознание и мысли о самом себе, может быть объяснен в терминах деятельности центральной нервной системы, которая, в свою очередь, может быть сведена к уровню биологической структуры и функций данной физиологической системы. Во-вторых, биологические явления могут быть полностью поняты в терминах атомной физики, то есть в терминах действия и взаимодействия составляющих систему атомов углерода, азота, кислорода и т.д. И наконец, атомная физика, наиболее полно понимаемая в терминах квантовой механики, должна содержать разум в качестве основного компонента системы.
Таким образом, мы, шаг за шагом, описали эпистемологический круг — от разума назад к разуму. Результаты подобных рассуждений, вероятно, больше пригодятся восточным мистикам, чем нейрофизиологам и молекулярным биологам; и тем не менее, получившаяся петля — прямое следствие комбинации идей трех признанных авторитетов в соответствующих областях науки. Поскольку редко кому приходится работать одновременно более чем с одной парадигмой, данная проблема до сих пор привлекала мало внимания.
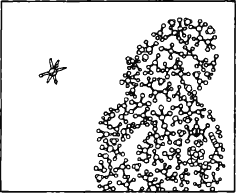
Если мы не согласны с этой эпистемологической кругообразностью, нам остаются две противостоящих области: физика, утверждающая, что она полна, поскольку описывает всю природу, и психология, считающая себя всеобъемлющей, поскольку она имеет дело с разумом, единственным источником нашего знания о мире. Однако оба эти взгляда не свободны от проблем, так что нам, может быть, не мешает вернуться к кругу и взглянуть на него с большей симпатией. Хотя он и лишает нас абсолютов, но, по крайней мере, он принимает во внимание проблему Тело-Разум и предоставляет основу, на которой могут контактировать индивидуальные дисциплины. Возможно, что этот круг представляет из себя наилучший подход к теоретической психологии.
* * *
Характерный для социобиологов редукционистский подход также не свободен от проблем, когда дело доходит до строго биологического уровня. Дело в том, что он включает предположение о постепенной эволюции от ранних млекопитающих до человека — а это в свою очередь предполагает, что разум — или сознание — не был внезапным скачком. Подобное предположение вряд ли оправдано, принимая во внимание многочисленные примеры дискретности в эволюции. Само происхождение вселенной, Большой Взрыв, — космический пример дискретности. Зарождение жизни, хотя и не было подобным катаклизмом, — еще один пример того же.
Кодирование информации в генетических молекулах внесло возможность серьезных нарушений равновесия в законах, управляющих вселенной. Например, перед приходом генетической жизни колебания температуры и шума были уравновешены, из чего следовали точные законы планетарного развития. Однако после этого единственное молекулярное событие на уровне термального шума могло привести к макроскопическим последствиям. Если этим событием оказывалась мутация в самовоспроизводящейся системе, оно могло изменить весь ход эволюции. Единичное молекулярное событие может убить кита, вызвав у него рак, или разрушить экосистему, произведя на свет сильнейший вирус, атакующий основные виды системы. Появление жизни не отменяет законы физики, но добавляет к ним новую особенность: глобальные последствия молекулярных событий. Это изменение в правилах делает историю эволюции неопределенной и, таким образом, представляет из себя яркий случай дискретности.
Некоторые современные биологи считают, что появление разума в процессе эволюции приматов — еще один пример подобной дискретности, изменяющей правила. Так же, как прежде, новая ситуация не меняет биологических законов, но требует новых подходов к проблеме. Эволюционный биолог Лоренс Б. Слободкин определил новую черту системы как интроспективное представление о себе. Эта особенность, утверждает он, изменяет ответ на эволюционные проблемы и делает невозможным объяснение исторических событий как прямых следствий законов биологического развития. Слободкин предполагает, что правила изменились и что человека нельзя понять согласно тем же законам, какие приложимы к остальным млекопитающим, чей мозг имеет похожую физиологию.
Эта возникающая в процессе эволюции черта в той или иной форме давно интересует антропологов, психологов и биологов. Она относится к опытным данным, которые не могут быть “убраны на полку” только лишь для того, чтобы сохранить чистоту редукционистского подхода. Эта дискретность должна быть полностью изучена и оценена, но вначале ее необходимо признать. Приматы сильно отличаются от остальных животных, а человеческие существа сильно отличаются от приматов.
Теперь мы понимаем, что стопроцентный редукционизм не является ответом на загадку разума. Мы обсудили слабость этой позиции. Она не только слаба, но и опасна, поскольку наши отношения с остальными человеческими существами зависят от того, как мы концептуализируем их в наших теоретических построениях. Если мы видим ближних лишь как животных или машины, мы лишаем наши взаимоотношения человеческого тепла. Если мы ищем объяснения нашим поведенческим нормам в изучении обществ животных, мы игнорируем те специфически человеческие черты, что так украшают нашу жизнь. Радикальный редукционизм объясняет весьма мало в области моральных императивов. К тому же он предлагает неверный глоссарий для гуманистических целей.
Научное сообщество достигло значительных успехов в изучении мозга, и я разделяю энтузиазм в отношении нейробиологии, характеризующий современные исследования. Тем не менее мы должны проявить определенную осторожность в формулировке утверждений, выходящих за пределы науки и ставящих нас на философские позиции, обедняющие человеческую природу отрицанием одной из самых интригующих особенностей нашего вида. Недооценка появления и характера самосозерцающей мысли — слишком высокая цена, заплаченная нашими редукционистскими предками несколько поколений тому назад за освобождение науки от теологии. Человеческая психика — часть научных данных. Мы можем не отказываться от этого и, тем не менее, оставаться хорошими биологами и психологами.
Размышления
“Сад разветвляющихся троп” — это неполная, но не ошибочная картина вселенной в понимании Чжуй Пена. В отличие от Ньютона и Шопенгауэра… он не представлял время как нечто абсолютное и равномерное. Он верил в бесконечные ряды времен, в головокружительно растущую, вечно распространяющуюся сеть сходящихся, расходящихся и параллельных времен. Эта паутина времени, чьи нити приближаются одна к другой, раздваиваются, пересекаются или игнорируют друг друга в течение столетий, заключает в себе все возможности. В большинстве из них мы не существуем. В некоторых существуете вы, но не я, в других есть я и нет вас. Есть и такие, где существуем мы оба. В этой, куда забросил меня случай, вы пришли к моей калитке. В другой вы, пересекая сад, нашли меня — мертвого. В третьей я произношу все эти слова, но я там — ошибка, фантом.
Хорхе Луис Борхес
“Сад разветвленных троп”
Действительное кажется плавающим в море возможного, откуда оно было выбрано; нондетерминизм утверждает, что где-то эти возможности существуют и являются частью истины.
Виллиам Джеймс