| | | |  | | | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  | | | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  | | | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Душа и тело Симоны Вайль
Приезд польского режиссера Кристиана Люпы стал главным событием московской сцены
ОЛЬГА ЕГОШИНА
Кристиан Люпа второй раз становится гостем «Золотой маски». В этот приезд главный гуру польского театра привез в Москву две части своего самого масштабного проекта последних лет, посвященного «священным чудовищам» ХХ века. «Персона Мэрилин», рассказывающая о последних днях Мэрилин Монро (см. «НИ» от 4.12.2010), приезжала в прошлом году на «Золотую маску» в рамках Дней польского театра. Спектакль «Тело Симоны», посвященный женщине-философу Симоне Вайль, русские зрители видят впервые.
 Элизабет Малгожаты Браунок впечатлила уровнем мастерства и мощью личности. Элизабет Малгожаты Браунок впечатлила уровнем мастерства и мощью личности.
Фото: GOLDENMASK.RU

Кристиан Люпа относится к числу немногих, кто формирует пути театра, ищет лексемы нового языка, пробует расширить само понятие театрального пространства и театрального текста, способы репрезентации актера на сцене. Его последние постановки – «Фабрика 2» и проект «Персоны», объединенные общей темой «гибели богов», – можно отнести к числу самых важных высказываний европейской культуры нового века. Фобии и страхи, надежды и упования массового сознания, его ловушки и прорывы, его демоны и святые, его иконы и его священные коровы – постоянный предмет изучения Кристиана Люпы и его актеров. Сквозной темой его спектаклей последнего пятилетия стала тема взаимоотношений игры и жизни, со всеми ее обертонами: притворства и искренности, реальности и условности, мысли и тела, эгоизма и жертвоприношения.
Главной героиней «Тела Симоны» стала Элизабет Фоглер, персонаж из фильма Бергмана «Персона», – знаменитая актриса, внезапно замолчавшая прямо во время спектакля. В постановке Люпы действие начинается с того, что некий радикальный театральный режиссер приглашает Элизабет на главную роль в новом проекте. Во время пресс-конференции звезда неожиданно прерывает расспросы интервьюера и заявляет, что отказывается от роли. А потом пристрастно допрашивает режиссера: «Почему ты меня позвал? Симона Вайль умерла в 34 года, а мне шестьдесят. Что подумают зрители?»
Собственно, весь польский спектакль и будет посвящен преодолению дистанции между актрисой и образом. Вся первая часть отдана страстным препирательствам между Элизабет (Малгожата Браунок) и ее Режиссером (Анджей Шеремета). Каждый пытается сформулировать свое собственное отношение к Симоне Вайль, бескомпромиссному философу, которая ради идеи стала разнорабочей на заводе «Renault». А потом во время холокоста ограничила свой рацион до размеров пайка, который получали в концлагерях ее соотечественники, и умерла от истощения. Была ли она фанатичкой или обманщицей? Наставницей или несчастной жертвой собственных комплексов? Искала Бога или просто не могла отдаться мужчине? Зрители оказываются втянутыми в философский диспут с ощутимым личным лирическим подтекстом. «Зачем ты хочешь унизить Симону? Или ты хочешь унизить меня?» – спрашивает Элизабет своего Режиссера.
Кристиан Люпа слишком хорошо знает все нюансы отношений режиссера и его актрисы, их перепады, неодолимую разницу в стремлениях. У режиссера – узнать и понять (замечателен по искренности монолог режиссера, транслирующийся на телеэкране над сценой). У актрисы – слиться и стать. В комментариях к спектаклю Кристиан Люпа нашел неожиданный и страшный образ процесса создания роли: «Персонаж растет внутри нее как опухоль». На все драматические выяснения-попытки сверху смотрит черно-белая фотография Симоны Вайль: молодой женщины с нервным лицом, в очках, скрывающих выражение глаз.
Если первая часть «Тела Симоны» отдана рассмотрению идеологии театрального процесса, то вторая, собственно, волшебству репетиционной импровизации. В первой половине спектакля ты пытаешься думать ему в такт. Во втором – падаешь в магию. Кристиан Люпа разработал свой собственный метод работы актера: метод, где все строится на импровизации, снимается на камеру, изучается, снова перепроверяется. Пока не приходит подлинная свобода существования, а фантазия не становится реальнее правды.
На сцене – попытка воссоздать самый важный эпизод из жизни Симоны – ее встречу с Учителем, несколько дней, проведенных в комнате, где хлеб сохранил вкус детства, а вино – причастия. Куда приходили разные люди и откуда Симону выгнали… О чем говорили в этой комнате, что там происходило? За декорационным окном вдруг оказывается пространство и тебе мерещится скрытый за ним город. Вваливается компания нелепых фриков, потрясающих свободой своего сценического бытия. И ты безусловно веришь, что эта нелепая троица вполне могла появиться в религиозных видениях Симоны Вайль. И она вот так же смотрела на этих незнакомых людей, вдруг обнажавших перед ней тело и душу, как сейчас смотрит Элизабет, мучительно пытаясь понять: в чем смысл этой распахнувшейся перед ней чужой жизни?
После мучительной и прекрасной общей сцены Элизабет Фоглер останется в репетиционной одна. И тогда в дверь войдет молодая, смертельно усталая Симона Вайль (Майя Осташевская). И начнется третья – главная часть спектакля – разговор актрисы со своей «опухолью». Разговор о самом главном и самом страшном. Об отношениях Элизабет с сыном («я стараюсь его любить») и Симоны с матерью («она всегда мной недовольна»). О том, что такое любовь. И нужен ли Бог, если есть человек, которого ты любишь. О самопожертвовании и самопознании. О долге и боли, об одиночестве и пути. О смерти, которая требует сил, и о жизни, которую надо преодолевать… Усталая Симона ложится на репетиционную железную койку, Элизабет пристраивается рядом, обнимая, гаснет свет…
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Великий хан Батый - основатель Российской государственности. (Хызыл шонныӊ оглызы) Часть III Минусинск 2013 УДК 94(47+57:517-89)<12> ББК 63.3 (2) 43 Т98 Тюньдешев Г.А. (Харамоос) Великий хан Батый - основатель Российской государственности. (Хызыл шонныӊ оглызы) Минусинск 2013 В работе раскрывается становление Российской государственности в ракурсе отца - основателя хана Батыя, оказавшего непосредственное воздействие на эволюцию и характер государственной власти в средневековой Руси, что нашло свое выражения в усилении восточных, ориенталистских черт в русской политической культуре, направленной на создание Золотой Орды. Раскрываются проблемы взаимоотношений русских князей с ханом Батыем, в совокупности с традициями и социальными институтами кочевого государства в создании империи и сохранении четких родовых и языковых признаков. Работа адресована всем тем, кто проявляет интерес к сложной истории России. ISBN 978-5-9903950 Кунҫулё кӑлӑх пулмасассӑн, Вилсен те пурӑнать этим (Митта Ваҫлейё) ВВЕДЕНИЕ Предлагаемая читателям работа является третьей частью, ранее выпущенных исследований, где из доступных источников описаны процессы формирования Российской государственности, возглавляемые ханом Батыем. Батый (был сыном хызыл тадар) стал создавать государство на земле кыпчаков, а русские князья присягнули ему в верности. Александр Ярославич, прозванный в народе Невским, после присяги стал хану Батыю названым сыном, вот откуда в русском языке слово «отец» от тюркского «оте». В течение длительного времени Золотая Орда являлось для русской аристократии и князей важнейшим источником легитимности и престижности их власти. Русская аристократия была продолжением ханского двора, где господствовали иные, отличные от древнерусских порядки, что не могло не отразиться на сознании и поведении русской политической элиты, которая постепенно впитывала имперский дух ордынской государственности. Тадары (правильнее будет употреблять в таком звучании) оказались способными – в смысле устойчивости и продуктивности – ответить на вызов оседлой жизни. Приспосабливая свои собственные традиции и институты к требованиям оседлой цивилизации, они проявили себя как строители империи, обладавшие конструктивным чувством государственного управления. Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственный язык теперь является русский (смесь славянского с тюркским), о языке основателя империи т.е. тадарском (тюркском) напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: казначейство, таможня, закон, деньги, Боярская Дума, ямская служба, кара, караул и т.д. Благодаря хану Батыю эти воины и пастухи степей стали жителями городов – чиновниками, купцами, промышленниками, ремесленниками, владельцами земли и земледельцами, строителями дорог, караван-сараев, больниц и школ. В русском же языке об этом нам напоминают следующие слова: книга, карандаш, учитель, учёный, час и т.д. Они стали культивировать и поощрять развитие научных школ – философии и других наук, литературы и искусства отчасти этот пласт общения отражен в местоимениях: мне, он и она, кем. Тем не менее, вне этой оседлой централизованной жизни государства тадаров сохранилось значительное и по существу автономное население кочевников. Çакна хускатмаллах калаçура Çук вырăн халь ярса пусма ура: Чура, чура, чура, чура, чура, чура Чура, чура, чура, чура, чура, чура (Илле Иванов) Хан Котян или хан Батый В истории России эра Тадарского правления рассматривается очень коротко и представляется в негативном свете как тадаро-монгольское иго, а в исторической же реальности всё было с точностью наоборот - это период становления Великой империи, одна из лучших страниц нашей Российской истории. Раскрытие данного тезиса – цель исследования. Еще при жизни Чингис-хан установил, что все «ханы» включая и главу государства должны утверждаться на Курултае (парламенте) согласно Великой Ясе (Конституции), поэтому он на семейном совете предложил своим наследником третьего сына Угедея, который затем должен пройти эту процедуру, что отмечено в «Сокровенном сказании монголов» так: «Добро быть Угедэю при особе батюшки- государя, добро государю и батюшке преподать ему наставление о Великой темной шапке!» На эти слова Чингис-хан заметил: «А ты, Джучи, что скажешь?» Джучи говорит: “Чагатай уже сказал. Будем служить парой с Чагатаем. Высказываемся за Угедэя!”». Как писал позже монгольский поэт: Земля и Небо- пара, Луна и Солнце- пара, Зима и Лето- пара, Рождение со Смертью- пара. «Мы знаем, что Чингис-хан думал об этом, и знаем, что оставшиеся ему лета он решил посвятить низвержению государства тангутов. Перед возвращением Чингис-хана в Монголию в Тангутском государстве произошли нежелательные для него перемены. Под давлением сторонников активной борьбы с монголами тангутский государь Цзунь-сян отрекся от престола в пользу своего сына Дэ-вана. Дэ-ван, зная о возвращении Чингис-хана из западного похода и о его намерении уничтожить государство Си Ся, пытался принять решительные меры для укрепления обороны страны. В конце 1224 г. он добился заключения мира между тангутами и чжурчжэнями. Мухали понял опасность такого поворота событий и выслал войска для опустошения центральных районов Си Ся. Тангуты наголову разбили их. Дэ-ван понимал, что чжурчжэни ныне плохие помощники. Цзинь находилась в руках монголов. Даже заключив мир с Си Ся чжурчжэни были вынуждены сражаться на два фронта на севере с монголами, набеги которых не прекращались, и на юге с китайцами. Южная Сун недальновидно помогала монголам добивать своих недавних врагов и северных соседей. Когда-то китайцы помогли чжурчжэням добить киданий и потеряли половину Китая, поддерживая монголов. Они еще не знали, что вскоре потеряют весь Китай». «Вернувшись домой, Чингис-хан потребовал от Дэ-вана выслать к нему в качестве заложника собственного сына. Государственный совет Си Ся обсуждал ответ монголам. Многие предлагали смириться, идти на любые уступки, чтобы не давать монголам повода для войны». Дэ-ван подумал, что это не спасение. «Спасение в решительных действиях и не только тангутов, но и их возможных союзников, всех, пострадавших от меча Чингис-хана». «В 1226 г. весной в первом месяце принимая во внимание, что Си Ся приняла его врага Илэгэсянькуня ( Шилгаксан-хону), а также не прислало в заложники сына государя, Чингис- хан сам лично возглавил войска и выступил в карательный поход против него». «Монголы перешли границу Си Ся в низовьях реки Эдзин-Гол. Здесь после упорных боев пал город Хэйшуй. Тангуты и некоторые союзные им племена были разгромлены и потеряли несколько десятков тысяч убитыми. Мирное население, «всех прочих тангутов», Чингис, по обыкновению, отдал «на поток и разграбление войску». Так началась последняя война в жизни Чингиса, почти двухлетняя война, направленная на полное истребление тангутского народа». «В декабре монголы форсировали Хуанхэ и вышли в восточные районы Си Ся. Как раз в это время скончался Дэ-ван, который пытался наладить борьбу с монголами. Новому тангутскому государю, князю Сянь, досталось трудное наследство. Стотысячная тангутская армия под Линчжоу пыталась остановить продвижение монголов к столице. Подробности этого грандиозного сражения, в котором принимал участие лично Чингис-хан, остаются неизвестными. Тангутская армия была полностью разгромлена. Линчжоу пал. Перед монгольской армией был открыт путь на столицу Си Ся». Зимой 1226/1227 началась осада Чжунсина. Весной и летом 1227 г. тангутское государство оказалось практически стертым с лица земли. «Осажденная тангутская столица была доведена до крайности; укрывшийся в ней глава государства предложил Чингис-хану сдать город, обещав по прошествии месяца лично явиться для изъявления покорности. Чингис-хан сделал вид, что принимает условия, для усыпления бдительности врага назвав его своим сыном. Однако в то же время, чувствуя приближение конца, он запретил известие о его смерти предавать огласке до окончания расправы над тангутским царем. Когда же последний явится, то его захватить и со всей свитой умертвить. Вскоре после этих последних распоряжений грозный правитель испустил дух 72 лет от роду. Перед самой смертью, последовавшей в 1227 году в полнолуние месяца «свиньи» и в год «свиньи», он в последний раз призвал к своему ложу сыновей Угедэя и Тулуя, а также внука Исунке-Ака, сына недавно умершего Джучи и изъявил им свою последнюю волю в следующих словах: “О, дети! Знайте вопреки ожиданиям, что приблизилось время последнего похода и перехода моего силою Господнею и помощью небесною. Я завоевал и покончил (укрепил) для вас, детки, царство такой пространной ширины, что до центра его в каждую сторону будет один год пути. Теперь мое завещание таково: вы для поражения врагов и возвеличения друзей будьте одного мнения и одного лица, дабы жить приятно и легко и наслаждаться царством. Угедэй-хана поставьте наследником. Вы не должны изменять моего «Ясака» после моей смерти, чтобы не было смуты в империи». Небольшой комментарий при Чингис-хане в 1206 году на Курултае (отец парламентов) был принят первый в мире конституционный акт Великая Яса, нормы которого являлись регулятором общественных отношений и перед которым были все равны независимо от социального, имущественного, конфессионального и национального положения подданных империи. Чингис-хан развил тюрко-кочевую традицию разделения властей, где существовал представительно-законодательный орган Курултай (парламент), принимавший законы, утверждал главу государства и других высших должностных лиц, принимал бюджет, решал вопросы войны и мира и т.д. Существовал независимый суд в эру Чингис-хана ее возглавлял Шиги-Хутугу. «Хранителем Великой Ясы (верховный прокурор) являлся второй сын Чагатай», «за армией отвечал его сын Толуй, за администрацию другой сын - Удегэй (Огодой)» И так «1227 г. Чингис-хан скончался, «кого могли они выбрать кааном, «Сыном неба» на земле? После смерти Темучжина казалось наследие настолько великим, что никто не осмеливался его принять. Сыновья вдохновились его духом и решили вопрос согласно Ясе. Отджигин (хранитель очага) Тулуй, которому была представлена столица, получил непосредственную власть над наследственными народами – монголами и кераитами, остальными он должен был управлять временно, в качестве регента, и обязан был следить за соблюдением национального договора Яса. Тулуй имел в своем распоряжении печати отца и его министров, но не был провозглашен кааном. В 1229 на обширном Курултае, где присутствовали все Чингизиды, знаменитые полководцы, найоны и крупные предводители родов, совет Тулуя обнародовал завещание Чингис-хана, в силу которого власть должна была перейти к Угедею. Всеобщий Курултай избрал Угедея Великим кааном, который правил в 1229-1241 гг.», «с титулом Далай-ин хан («Хан над всеми в пределах морей»). В 1235 г. Угедэй начал строить в ставке Чингиса Каракоруме город и дворец. Каракорум был столицей монголов до 1260 года, до того момента, когда Хубилай перенес столицу империи в Пекин. Удегэй провел «по всему государству раздел земельно-кочевых и водных угодий», для чего от каждой тысячи были выделены особые нунтугчины- землеустроители по отводу кочевий». Реформы коснулись улучшений почтовой службы, Удегей упорядочил налогообложения. Часть тюрко-монгольской знати предложила Удегэй в 1230 г. превратить территорию Северного Китая в пастбища для скота. «Кидань Елюй Чуцай доказал хану, что это менее выгодно, чем эксплуатация населения через налоговые управления. Это событие явилось переломным моментом в истории тюрко- монгольской государственности». С этого момента постепенно начала превалировать система китайского государственного управления, в основе которых лежат идеи Конфуция. Власть монарха - естественное продолжение власти отца (патриарха), который заботится о членах своей семьи и обеспечивает их послушание. Для понятия этой идеологии процитируем некоторые высказывания самого Кун-цзы: «Мало бывает таких, которые, будучи почтительны к родителям и старшим в роде, захотели бы восстать на высших; и никогда не бывало, чтобы тот, кто не любит, восставал против высших (т.е. Государя или правительства), захотел произвести возмущение. Для благородного мужа всего важнее основание; когда основание положено, то рождаются и правила (поступков или законы. Коим должно следовать); а почтительность к родителям и уважение к старшим в роде – это- то и поставляет, кажется, основание человеколюбия», или учитель сказал: «Управление государством, имеющим тысячу военных колесниц (состоит в том, чтобы) быть внимательным к (своим) делам и внушать доверенность (народу), быть бережливым (в расходах государственных) и милостивым к людям, отряжать народ (на работу) вовремя», далее такое высказывание философа: «Молодежь дома должна быть почтительна к родителям, вне дома- уважительна к старшим, отличаться осторожностью и искренностью (правдивостью), обильною любовью ко всем и сближаться с людьми гуманными. Если по исполнению сего останется свободное время, то посвящать его учению». В тему интересно следующее изречение Конфуция: «Если о том, кто, уважая достоинство, превозмогает тягу к сладострастию, кто, служа отцу и матери, способен напрячь все свои силы, кто, служа государю, способен пожертвовать самим собой, кто общаясь с друзьями, верен данному слову, хотя и скажет, что не учен, я непременно назову такого ученым». Отсюда мы видим китайская концепция противоположная тому что предложил Чингис-хан т.е. общество основанное на законе. Как мы уже выше касались этого вопроса, что в Тюрко-Монгольской империи главу государства утверждают в соответствии с нормами Великой Ясы на Курултае, в отличии от китайской практики прихода к власти в государство, которое имеет существенные недостатки в частности «под коверная борьба». Приведем один из ярких примеров: У Чжао- дочь знатного вельможи- родилась в 625 году. Юная красавица была пленительна и именно поэтому попала в гарем императора Тай Цзуна. Императорский горем был опасным местом, где множество наложниц соперничали за место фаворитки императора. Красота и несомненные достоинства У Чжао помогли ей одержать над ними легкую победу, но зная что как и всякий человек обладающий властью, император капризен и может в любой момент заменить её повинуясь прихоти, она задумалась о своем будущем. У Чжао удалось соблазнить распутного императорского сына Гао Цзуна, использовав единственную возможность остаться с ним наедине: она подстерегла его во дворцовом писсуаре. Однако после смерти императора, когда Гао Цзун взошел на трон, ей удалось тайно наладить общение с императором и подружиться с его женой - императрицей. Так она добилась появления в высшей степени необычного указа, который разрешал ей вернуться во дворец и в гарем. У Чжао лебезила перед императрицей и была в любовной связи с императором. Императрица не препятствовала этому – ей еще только предстояло подарить императору наследника, закрепив этим свой союз. До этого её положение было уязвимым, и У Чжао являлась ценной союзницей. В 654 году У Чжао стала матерью. Однажды императрица пришла навестить её, и как только она ушла, У Чжао задушила новорожденного - своего собственного ребенка. Когда об убийстве узнали, подозрение сразу же пало на императрицу: она как раз только, что посетила У Чжао, к тому же всем было известно, как она ревнива. Именно в этом состоял план коварной наложницы. Императрицу обвинили в убийстве, и вскоре она была казнена. У Чжао стала императрицей. Её супруг привыкший проводить жизнь в удовольствиях, с радостью отдал бразды государственной власти новой жене, которую теперь называли императрицей У. Когда ей исполнилось 41 год её испугали подозрения, что фавориткой императора стала его прелестная племянница. У Чжао отравила юную женщину. В 675 году её собственный сын официальный наследник, так же был отравлен. Её следующий по старшинству сын - внебрачный, но теперь коронованный как принц- немногим позже был отправлен в ссылку по сфабрикованному обвинению. И когда в 683 году скончался император. У Чжао добилась признания её сына недееспособным. Все это привело к тому, что императором был провозглашен её младший, самый неудачный сын. Она продолжала править в качестве его опекуна. «К 688 году не осталось никого, кто мог бы соперничать с У Чжао. Она провозгласила себя божественным потомком Будды, и в 690 году наконец осуществилась её главное желание: она получила титул Святого и Божественного «императора» Китая». Нечто подобное происходило в Российской империи в период правления Романовых с Софией Августой Фредерикой дочерью коменданта Штеттина, генерала прусской службы Христиана Ангельт-Цербского, ставшая в последствии императрицей Екатериной II (1762- 1796 гг.). Приведем поэтому поводу сарказм Валентина Пикуля: «Еще при жизни Екатерины немецкие историки перерыли архивы церквей и магистрата Штеттина, так и не найдя ни единой бумажки, подтверждающий даже сам факт её рождения. Пропажа официальных актов уже тогда вызвала подозрения: “Каковы же были серьезные причины, заставившие скрыть её появление на свет? Что кроится за семейной тайной? Может, незаконность рождения?...”». А все началось в 1742 г. Елизавета объявила наследником своего племянника, родного внука Петра Великого (и внука сестры карла ХII Шведского) герцога Шлезвиг-Голштинского Карла-Петра_Ульриха. «Четырнадцатилетний осиротелый герцог был перевезен из Голштинии в Россию нашел в Елизавете вторую мать, принял православие и вместо немецкого воспитания стал получать русское. В 1745 г. его поспешили женить. Вопрос о невесте очень долго обсуждался при дворе, потому что браку придавали политическое значение и боялись ошибиться». Елизавета сделала выбор на принцессе Софии-Августе-Фредерике Англьт-Цербст. Её мать Иогана Елизавета в заботах о довольно бедном хозяйстве успела потерять чувство такта и хороший характер, приобретя наклонности к стяжаниям и пересудам. Невестка с матерью переехала в Россию, приняла православие и была названа Екатериной Алексеевной; 25 августа 1745 г. произошла свадьба 17- летнего Петра с 16- летней Екатериной. «Но все замечали, что жених был холоден к невесте и прямо ссорился с будущей тещей. Впрочем, мать Екатерины проявляла свой неуживчивый характер по отношению ко всем и потому была отправлена из России в том же 1745 г. Молодая чета оставалось как бы одинокой в большом елизаветинском дворце, будучи оторвана от немецкой среды, от обстановки своего детства. И мужу, и жене приходилось самим определять свою личность и свои отношения при дворе». Здесь Екатерина преуспела, сначала она обворожила Елизавету, завоевала симпатии двора. Она усердно занялась русским языком и православным вероучением. Блестящие способности позволили ей оказать в короткое время большие успехи, и при церемонии крещения она так твердо прочла символ веры, что всех этим удивила. «Но сохранились известия, что перемена религии для Екатерины была не так легка и радостна, как она показывала императрице и двору». «Не любя ни мужа, ни Елизавету, Екатерина, тем не менее, держала себя в отношении их очень хорошо. Она старалась исправлять и покрывать все выходки мужа и не жаловалась на него никому. К Елизавете же она относилась почтительно и как бы искала её одобрения. В придворной среде она искала популярности, находя для каждого ласковое слово, стараясь примириться к нравам двора, стараясь казаться чисто русской набожной женщиной». Екатерина побуждаемая честолюбием понимала опасность своего положения и возможность громадного политического успеха. Об этой возможности говорили ей и другие: один из посланников (прусский) ручался ей, что она будет императрицей; Шуваловы и Разумовские считали Екатерину претенденткой на престол; Бестужев вместе с ней строили планы о перемене престолонаследия. Екатерина сама должна была готовиться действовать и для своей личной защиты, и для достижения власти после смерти Елизаветы. Она знала, что муж привязан к другой женщине Елизавете Воронцовой и желал заменить ею свою жену, в которой видел опасного для себя человека. И вот, чтобы смерть Елизаветы не застала её врасплох, Екатерина стремится приобрести себе политических друзей, образовать свою партию, она тайно вмешивается в политические и придворные дела, ведет переписку с очень многими видными лицами. Дело Бестужева и Апраксина (1757 – 178 гг.) показало Елизавете, как велико было при дворе значение великой княгини Екатерины. Бестужева обвиняли в излишнем почтении перед Екатериной. Апраксин был постоянно под влиянием её писем. Падение Бестужева было обусловлено его близостью к Екатерине, и саму Екатерину постигла в ту минуту опала императрицы. Она боялась, что её вышлют из России, и с замечательной ловкостью достигла примирения с Елизаветой. Она стала просить у Елизаветы аудиенции, чтобы выяснить ей дело. И Екатерине была дана эта аудиенция ночью. Во время беседы Екатерины с Елизаветой за ширмами в той же комнате тайно были муж Екатерины Петр и Иван Ив. Шувалов, и Екатерина догадалась об этом. Беседа имела для нее решающее значение. При Елизавете Екатерина стала утверждать, что она ни в чем не виновата, и, чтобы доказать, что ничего не хочет, просила императрицу, чтобы её отпустили в Германию. Она просила об этом, будучи уверена, что поступят как раз наоборот. Результатом аудиенции было то, что Екатерина осталась в России, хотя была окружена надзором. Теперь ей приходилось вести игру уже без союзников и помощников, но она продолжала её вести еще с большей энергией. «Если бы Елизавета не умерла так неожиданно скоро, то, вероятно, Петру III не пришлось бы вступать на престол, ибо заговор уже существовал и за Екатериной стояла уже очень сильная партия». Петр III вступил на престол 25 декабря 1761 году, а 29 июня 1762 году Екатерина совершила государственный переворот и правила по 1796 год. В период своего правления Екатерина II расправилась с законным претендентом на престол Ионом Антоновичем (Иван V), который находился в заточении. Императрица Екатерина II стала тормозом новых экономических отношений в Российской империи, так как отражала интересы феодалов, а значить феодального права и феодального государства т.е феодальную формацию. Её главной целью было удержаться у власти. «Императрицу Екатерину II один иностранный посол как-то спросил: "Как Вы, Ваше Величество добиваетесь того, что Ваши непослушные дворяне Вас всегда слушаются? " - "Я никогда не заставляю их делать то, что им не выгодно", - ответила государыня». В выше приведенных двух примерах не важно, что женщины пришли таким мерзким путем к власти, а важно, что эта система передачи власти без участия народа не эффективна. Конечно, есть и другие системы престолонаследия такие как: «Салическая: наследование престола исключительно по мужской линии ; Кастильская: наследование престола предпочтительно по мужской линии, младший брат исключает старшую сестру; Австрийская: женщина наследует только при полном отсутствии мужской линий». Подобная под коверная борьба за власть была и в монархической Европе, независимо от системы престолонаследования она оказалось живучей и до последнего цеплялась за власть. К примеру, в Европе патриархальная теория в период заката нашла свое развитие в ХVII веке в сочинении Фильмера «Патриарх». Фильмер сторонник неограниченной королевской власти, пытался опираясь на Библию, доказать, что Адам, который, по его мнению, получил власть от бога, передал затем эту власть своему старшему сыну- патриарху, а тот уже своим потомкам – королям. «Сочинение Фильмера было самой экзотической работой, выражавшей идеи патриархальной теории. Уже современники Фильмера обратили внимание на несуразность многих её положений». Чингис-хан же установил такую систему, что Правителя государства утверждают в соответствии с Великой Ясой только Курултаем (парламентом), на Западе к такой передачи власти пришли только в ХVIII веке. Единственный недостаток такой системы, на пост главы государства могли претендовать только прямые потомки Чингисхана, но надо понять, что это ХIII век, для средневековья это было прогрессивным, опережающим на многие века и гениальное нововведение в управлении государством. Угедей хан не наследовал ни гениальных способностей, ни могучей воли отца, но своим душевными качествами он более других мог служить тем объединяющим центром, в котором нуждалась империя. «На Курултае было решено продолжить покорение Цзиньской империи, послать несколько отрядов в Корею и наступать на запад во владения кыпчаков военными силами улуса Джучи. Во главе 30- тысячного войска Субэтай и царевич Кутай начали поход на земли кыпчаков. В 1228 г. они покорили живших в приуральских степях восточных кыпчаков. Затем конница Субэтая перешла реку Яик и вторглась в прикаспийские степи. Тадаро-монголы вытеснили кочевье кыпчаков и разгромили булгарские сторожевые заставы, охранявшие дальние подступы. Под натиском тадар кыпчаки бежали в пределы Волжской Булгарии. Вторжение в Волжскую Булгарию не было предпринято. Этот поход в 1228-1229гг. в целом не нарушил жизнь в степях, особенно в западных районах. Когда часть восточных кыпчаков бежала в Волжскую Булгарию, другая часть, перейдя Идель (Волгу), откочевала в танские (донские) степи и степи Иделя. Западный хан кыпчаков Котян спокойно разорял Галицкое княжество. По окончанию похода Субэтая отправили в Китай». Ярослав же в это время (1227) «ходил с войском в северную, отдаленную часть Финляндии, где никогда ещё не бывали россияне; не обогатился в сей бедной стране ни серебром, ни золотом, но отнял у многих жителей самое драгоценнейшее благо: отечество и вольность. Новгородцы взяли столько пленников, что не могли всех увести с собой: некоторых бесчеловечно умертвили, других отпустили домой». [1228г.] «Россияне думали, что, грозно опустошив Финляндию, они уже на долгое время будут с сей стороны покойны; но месть дает силы. Лишенные отцов, братьев, детей и пылая справедливостью злобою, финляндцы разорили селения вокруг Олонца и сразились с посадником ладожским. Ночь прекратила битву. Напрасно предлагав мир, они умертвили всех пленников, бросили лодки свои и бежали в густые леса, где ижеряне и корелы истребили их всех до одного человека. Между тем Ярослав, не имев времени соединиться с ладожанами, праздно стоял на ниве и был свидетелем мятежа воинов новгородских, хотевших убить какого-то чиновника, именем Судимира князь едва мог спасти несчастного, скрыв его в собственной ладии своей. Вообще Ярослав не пользовался любовью народною». Когда он попытался организовать поход на Ригу и выдать ему клеветников его, то псковитяне Ярославу отказали. Как написано у Н.М. Карамзина: «Кланяемся тебе и друзьям новгородцам; а братьев своих не выдадим и в поход нейдем, ибо немцы нам союзники». «Тогдашний союз россиян с ливонским орденом и дружелюбные их сношения с послом Гонория III в Риге, епископом моденским, столь обрадовали папу, что он в 1227 году написал весьма благосклонное письмо ко всем нашим князьям, обещая им мир и благоденствие в объятиях латинской церкви и желая видеть их послов в Риме». «Древняя вражда Ольговичей и Мономаховых потомков казалась усыпленною. Те и другие равно уважали знаменитого Мстислава Галицкого, их главу и посредника. Сей герой, долго называемый Удатным, или счастливым, провел остаток жизни в беспокойствах и в раскаянии. Обманутый злобными внушениями Александра Бельзского, он возненавидел было доброго зятя своего, мужественного Даниила, союзника поляков, и хотел отнять у него владение; узнав же клевету Александрову, спешил примириться с Даниилом, и, вопреки совету других князей, оставил клеветника без наказания. Нечаянное бегство всех знатнейших бояр галицких и ссора с королем венгерским были для него также весьма чувствительным огорчением. Один из вельмож, именем Жирослав, уверил первых, что князь намерен их, как врагов, предать на избиение хану половецкому Котяну: они ушли со всеми домашними в горы Карпатские и едва могли быть возвращены духовникам княжеским, посланным доказать им неизменное праводушие, милосердие государя, который велел облеченному во лжи, бесстыдному Жирославу только удалиться, не сделав ему ни малейшего зла. Столь же невинен был Мстислав и в раздоре с венграми. Нареченный его зять, юный сын короля Андрея, послушав коварных наушников, уехал из Перемышля к отцу с жалобою на какую-то мнимую несправедливость своего будущего тестя. Андрей вооружился; завоевал Перемышль, Звенигород, Теребовль, Тихомль и послал войско осадить Галич, боясь сам идти к оному, ибо волхвы венгерские, как говорит летописец, предсказали ему, что он не будет жив, когда увидит сей город». Суеверие Андрея могло дорого ему стоить и чаша весов победы могла склониться на сторону Мстислава, однако он не воспользовался этой возможностью. «Мстислав не только прекратил военные действия, не только выдал свою дочь за королевича, но и возвел зятя на трон галицкий, оставив себе одно Понизье, или юго-восточную область сего княжества. Случай беспримерный в нашей истории, чтобы князь российский, имея наследников единокровных, имея даже сыновей, добровольно уступал владение иноплеменнику, согласно с желанием некоторых бояр, но в противовес желанию народа, не любившего венгров. Легкомысленный Мстислав скоро раскаялся, и внутреннее беспокойство сократило дни его». «Смертью его воспользовался королевич венгерский, Андрей, немедленно завладев Понизьем как уделом галицким: князья же юго-западной России, лишенные уважаемого ими посредника, возобновили междоусобие». Даниил был наследником городов: «Перессопницы, Черторижска и Луцка (где прежде княжил Ингварь, брат Немого); Но Ярослав, сын Ингварев, насильственно занял Луцк, а князь Пинский Черторижск». Разводящим у них был кыпчакский хан Боян, т.е все князья были под властью тюрок, в зависимости от того какую сторону займет половецкий хан Боян, этот князь начинал доминировать, что отражено у Н.М. Карамзина: «Владимир Рюрикович вздумал мстить сыну за отца: известно, что Роман Галицкий силою постриг некогда Рюрика. Тщетно митрополит старался прекратить сию вражду. «Такие дела не забываются», - говорил Владимир и собрал многочисленное войско. Хан половецкий Котян, Михаил Черниговский, князья северские, Пинский, Туровский, вступив в дружественную связь с Андреем, королевичем венгерским, осадил Каменец, город Даниилов; но возвратились с одним стыдом и долженствовали сами просить мира, ибо Данил склонил Котяна на свою сторону». [1229г.] «Михаил по заключению сего общего мира, сведал о задержании послов новгородских в Смоленске; видя Чернигов со всех сторон безопасным, он немедленно поехал в Новгород, где народ принял его с восклицаниями единодушной радости». [1230г.] «Новгородцы, озабоченные набегом литовцев в окрестностях Селигерского озера, не могли отмстить Ярославу за обиду; разбили неприятелей в поле, но скоро увидели гораздо ужаснейшее зло в стенах своих. Предтечею его было землетрясение [3 мая], общее во всей России, и еще сильнейшее в южной, так что каменные церкви расседались. Удар почувствовали в самую обедню, когда Владимир Рюрикович Киевский, бояре и митрополит праздновали в лавре память cв. Феодосия; трапезница, где уже стояло кушанье для монахов и гостей, поколебалась на своем основании: кирпичи падали сверху на стол. Через десять дней необыкновенное затмение солнца и разноцветные облака на небе, гонимые сильным ветром, так же устрашили народ, особенно в Киеве, где суеверные люди ждали конца своего, стонали на улицах и прощались друг с другом». «Между тем голод и мор свирепствовали. За четверть ржи платили уже гривну серебра или семь гривен кунами. Бедные ели мох, желуди, сосну, ильмовый лист, кору липовую, собак, кошек и самые трупы человеческие; некоторые даже убивали людей, чтобы питаться их мясом, но сии злодеи были наказаны смертью. Другие в отчаянии зажигали дама граждан избыточных, имевших хлеб в житницах, и грабили оные; а беспорядок и мятеж только увеличивали бедствие. «Не было жалости в людях, - говорит летописец. Казалось, ни отец сына, ни мать дочери не любят. Сосед соседу не хотел уломить хлеба!» Но великодушная дружба иноземных купцов отвратила сию погибель. Сведав о бедствии новгородцев, немцы из-за моря спешили к ним с хлебом и, думая более о человеколюбии, нежели о корысти, остановили голод, скоро исчезли ужасные следы его, и народ изъявил живейшую благодарность за такую услугу. Михаил Черниговский, несмотря на заключенный мир во Владимире, дружелюбно принимал новгородских беглецов, врагов Ярославовых, обещая им покровительство. Сам великий князь Георгий оскорбился сим криводушием и выступил с войском к северным пределам черниговским; он возвратился с дороги, но Ярослав, предводительствуя новгородцами, и сыновья Константиновы выжгли Серенск ( в нынешней Калужской губернии), осаждали Мосальск и сделали много зла окрестным жителям. Таким образом, древняя семейная вражда возобновилась». [1234 г.] «Ливонские рыцари, пристав к российским мятежникам и захватив близ Оденпе одного чиновника новгородского, дали повод Ярославу разорить окрестности сего города и Дерпта. Немцы, требуя мира, заключили его на условиях, выгодных для россиян». [1236г.] «Союзник и родственник Михаилов, Изяслав, недолго величался на троне киевском: Владимир Рюрикович изгнал его, выкупив себя из плена; но вследствие переговоров Данииловых с великим князем Георгием долженствовал уступить Киев Ярославу Всеволодовичу, который оставив в Новгороде сына своего Александра, поехал княжить в древней столице Российской, а Владимир кончил жизнь в Смоленске». В этот период вырисовывается Суздальско- Владимирское княжество, но все ещё под властью кыпчаков (половцев). Вот как описывает это время Н.М. Карамзин: «Великое княжение Суздальское, или Владимирское, наслаждалось внутренним спокойствием. Георгий от времени до времени посылал войско и сам ходил на мордву жечь села и хлеб, пленять людей и брать скот и добычу. Жители обыкновенно искали убежища в густых лесах, но и там редко спасались россиян; иногда же заманивали наших в сети и не давали им пощады: так отроки, или молодые воины, ростовской и переяславской дружины были однажды жертвою их мести и своей неосторожности. Князь мордовский именем Пургас осмелился даже приступить к Нижнему Новгороду, хотя и не имел порядочного войска; другие князья мордовские были ратниками, или присяжными данниками Георгия, и многие россияне селились в их земле, несмотря на то, что болгары и половцы тревожили оную». Мы видим, конечно же не без влияния половцев новый порядок едва обозначался в Суздальской Руси, когда над этой Русью стала тяготеть тадарская власть. Здесь не надо акцентировать, акцент сам выдает, величайшую эпоху в истории России, которую умышленно занижали и недостаточно изучали. Объективно тадарская эпоха оказала существенное влияние на государственное, правовое и общественное устройства Древней Руси. Конечно же, ту или иную эпоху делает народ руководимый лидером, тадарскую историю нашей России написал Великий тюрк Батый. Покончив с войной в Китае Угэдэй в 1235 г. собрал Курултай. На Курултае, как сообщает Рашид ад-дин, было решено, «что объединенная армия под командованием Батыя должна закончить завоевание территории Волжской Булгарии, Дешт-и-Кыпчака, Руси и Черкесии до Дербента». «Из этого видно, что на Курултае не планировался поход в Западную Европу и Батый предпринял его по собственной инициативе. В походе участвовали 11 царевичей- чингизидов, среди них- Мункэ, Гуюк, Кадан, Орду, Байдар, Бирюй, Бечак, Бурундай и т.д. Батый получил любимца Чингиз-хана, великого полководца Субэтая, в качестве главнокомандующего, а его штаб в качестве военного совета. Армия Батыя насчитывала до 150 тысяч воинов, но эту цифру считают завышенной: так Рашид ад-дин пишет, «что общая численность монгольского войска для войны на трех фронтах в Китае, в Средней Азии и на землях кыпчаков была 129 тысяч человек и 2 тумэна чжурчженьских – для обслуживания боевых машин». В войсках Батыя было лишь несколько тысяч монголов, армия состояла преимущественно из тюрков». «В 1236 г. отряды Батыя захватили царство волжских булгар». «А весной 1237 г. напали на алан (осетин) и кыпчаков. В дельте Иделя (Волги) погиб храбрейший из кыпчакских вождей- Бачман, а войска хана Котяна отступили за р. Тан (Дон). Фронтальное наступление «захлебнулось». Тогда тадары-монголы применили тактику обхода и окружения, или проще облаву на кыпчаков. Не оставляя нажима на кипчаков в северо-кавказских степях, они двинули отряд на север и осенью 1237 г. подчинили буртасов, эрзю и мокшу, подойдя к границам Рязанского княжества. Начался поход на Русь. Во главе этих отрядов стоял внук Чингиз-хана Батый, а южной армией командовал Мункэ. План тадаро-монгольского командования заключался в том, чтобы в то время, когда кыпчаки держали оборону на Тане (Дону), зайти к ним в тыл и ударить по незащитным приднепровским кыпчакам». А вот княжества на Руси для тадаро-монгол не представляли угрозы как самостоятельной военной силы, потому, что они не были суверенными государствами, а являлись субъектами Половецкой федерации. Отсюда следует, разгром Кыпчакского государства был основной задачей хана Батыя и те Русские княжества верные Половецкой федерации стали также объектом нападения тадар. Так хан «Батый разгромил войско Рязанского княжества, взял в Великом княжестве Владимирском 14 городов и разбил войско князя Юрия II на р. Сить, затем после двухнедельной осады 5 марта 1238 г. взял Торжок». Князья-прагматики, девизом которых была славянская поговорка «хрен редьки не сладче» видя, что половцы проигрывают, признали власть тадар. А у тадар был принцип, заложенный ещё Чингисханом: хорошо относиться к тем, кто добровольно признавал власть тюрков и часть русских удельных князей поняли принцип Великого хана и воспользовались шансом и стали частью Тадарского государства это князья городов Ярославля, Ростова, Углича, Твери и др… У Н.М. Карамзина это отмечено так: «Завоевав Владимир, тадары разделились: одни пошли к волжскому Городцу и костромскому Галичу, другие к Ростову и Ярославлю, уже нигде не встречая важного сопротивления». Тадарские правила войны так отражены у Р.Н. Безертинова: «те города, которые подчинились добровольно, получили название «гобалык»- «добрый город»; тадаро-монголы с таких городов взимали умеренную контрибуцию лошадьми для пополнения кавалерии и съестными припасами для ратников». Новгород так же вступил в переговоры с тадарами и избежал разгрома, хотя у хана Батыя шедшего на Великий город был идеальный план, «причем опять он дал своей операционной линии такое направление, что бы не допустить соединения ополчений новгородских с псковскими», но так как город оказался добрым тадары «не дойдя до Новгорода верст 200 повернули обратно на юг». «Об обратном движении хана Батыя на юг наши летописи дают лишь весьма скудные сведения. Только из сохранившегося сказания о шестидневной городской обороне Козельска» Многие исследователи сроки обороны черниговского городка растянули аж на семь недель. Здесь дело в том, что Козельск «был объявлен «злым городом», так как его князь – Мстислав Святославич- казнил послов. Тадаро-монголы полагали, что подданные злого правителя несут ответственность за его преступления. Поэтому Козельск был взят, а население его истреблено. Михаил Черниговский не пришел на выручку Козельска, входившего в Черниговское княжество, отверг мирные предложения тадаро-монгол, бросил свою землю и бежал в Венгрию, потом в Польшу. Скитаясь по Европе, он просил у папы сбора помощи против тадар, за что по возвращении на Русь был казнен. Козельску не оказали помощь ни смоленские, ни владимирские князья». Данная ситуация ещё одно из свидетельств того, что часть князей сменила «крышу» вместо хана Котяна признала правителем хана Батыя. Однако в отношении воинственных и преданных русских князей хану Котяну, обращались жестоко, так «в Николин день (по мнению одних историков – 9 мая, других 6 декабря) 1240 года Киев пал под ударами кочевников после непродолжительной осады. Город был разрушен, население его истреблено. Опять жестокость в данном случае объясняется тем, что тадаро-монгольское посольство из 10 человек во главе с принцем из дома Чингис-хана было перебито. После этого тадаро- монголы овладели галицкими княжествами и выдвинулись в предгорья Карпат». Коллаборационизм русских князей помог им сохранить свои княжества, т.е. Русь практически безболезненно смогла влиться в тадаро-монгольское государство, говоря проще без проблем сменила хозяина. А «разрушения, причиненные войной 1236-1240 гг. сильно преувеличены современными историками». Если же бы, все русские князья были верны до конца Половецкому государству, то их ждала участь хана Котяна и половцев, ушедших с политической арены региона на многие века: до современного Казахстана. Тадары, присоединив Кавказ, Крым и Русь фактически «приказали долго жить», Половецкой федерации, однако мощный осколок в лице верховного руководителя остался. «Главный их хан Котян со своей ордой ушел в Венгрию, где получил от Короля Белы IV земли для поселения. Половцы, оставшиеся в степях, вошли в состав монголо-тадарских войск, которые заметно увеличились в численности». «Кыпчаки, отступившие в Венгрию, представляли потенциальную опасность. Поэтому было решено преследовать хана Котяна до тех пор, пока он не будет уничтожен», (как во время гражданской войны в России был уничтожен император Российской империи Николай II с семьей, а также, как когда-то преследовал Чингисхан главу Хорезмского государства Мухаммед-шаха). «Согласно сведениям венгерских источников в 1237 г. хан Котян обратился к венгерскому королю Беле IV с просьбой об убежище. В 1239 г. король Бела IV принял и лично встретил 40- тысячную орду хана Котяна на границе и велел королевским чиновникам расселить всех кыпчаков внутри Венгрии. Они поселились в междуречье Дуная и Тиссы и на восточных окраинах государства». «Узнав об этом, хан Батый послал королю письмо: «Узнал я сверх того, что рабов моих кыпчаков ты держишь под своим покровительством, почему приказываю тебе впредь не держать их у себя, чтобы из-за них я не стал против тебя. Кыпчакам легче бежать, чем тебе, так как они, кочуя без домов в шатрах, могут бы
| | Комментариев: 1 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Аверинцев С.С.
О Симоне Вейль
Достоевского уже в XIX веке прочли не только в России, да и Киркегором под конец того же века заинтересовался, например, Брандес. И все же есть, очевидно, какой-то смысл в утверждении, согласно которому XX столетие принадлежит Киркегору и Достоевскому по преимуществу; XX столетие больше их столетие, нежели то, в котором они жили.
Если XXI век — будет, то есть если человечество не загубит своего физического, или нравственного, или интеллектуального бытия, не разучится вконец почтению к уму и к благородству, я решился бы предположить, что век этот будет в некоем существенном смысле также и веком Симоны Вейль. Ее сочинения, никогда не предназначавшиеся к печати ею самой, уже теперь изданы, прочитаны, переведены на иностранные языки. Но трудно отделаться от мысли, что ее время еще по-настоящему не наступило. Что она ждет нас впереди, за поворотом.
То, что она до сих пор неизвестна русскому читателю, особенно прискорбно, потому что во всем составе ее морального облика присутствует та готовность к самосожжению, которой нам, почитающим себя за народ протопопа Аввакума, так часто недостает в западной духовности.
Ее жизнь началась с того, что она, не без блеска окончив Сорбонну и получив право преподавать философию в лицеях, обладая притом весьма хрупким здоровьем, пошла на завод, чтобы лично перестрадать тревожившую ее ум проблему механического труда (она считала, что именно проблема одухотворения такого труда оставлена нам греками как неразрешенная — прочие проблемы культуры они в принципе решили).
Ее жизнь кончилась тем, что она, работая во время войны у де Голля в лондонском штабе французского Сопротивления и готовясь к нелегальной высадке на оккупированной территории жестко сокращала свой ежедневный рацион, чтобы не иметь преимуществ перед соотечественниками, томившимися в условиях оккупации. Этот род высокого безумия мы слишком легко склонны считать исключительно специальностью русских максималистов.
Декларации Прав Человека, на которой основывается величие, но и некоторая духовная «теплохладность» западного гуманизма, его готовность уклониться в сторону идеала внешнего и внутреннего комфорта, Симона Вейль противопоставила Декларацию Обязанностей Человека. Она аргументировала так: если прав не соблюдают, их просто нет; но если обязанностей не выполняют, они остаются такими же реальными, такими же неумолимыми. Поэтому обязанности онтологически первичнее прав.
Ее страх оказаться в привилегированном положении перед кем бы то ни было — перед рабочими на фабрике, перед оккупированными французами, но также перед неверующими, лишенными шанса религиозно осмыслить свое страдание, — привел ее к поступку, вернее, отсутствию поступка, которое христианский богослов любого направления не может не оценить как ошибку. Любя многое— например, наследие классической Эллады, — она пламеннее всего любила образ Христа, евангельскую духовность, жизненные навыки старых монастырей, чистоту григорианского пения; она подолгу живала в бенедиктинской обители, беря на себя все аскетические требования, деля с насельниками обители все, кроме таинств; но она так и умерла некрещеной. На поверхности было нежелание формально выходить из еврейства, пока продолжаются гитлеровские гонения на евреев. В глубине была боязнь, что место в Церкви — тоже «привилегия», хотя бы и самая желанная. Симона Вейль ждала, что Бог сам какими-то непредсказуемыми путями разрешит для нее эту дилемму. Зримо для мира никакого разрешения не произошло. Рассуждать на эту тему неуместно — как здесь, так, и наверное, и вообще. Одно можно сказать о ней в христианских терминах: заслышав зов нового страдания, который она принимала своей верой как зов Христа — «Иди за Мной!», — она никогда не жалела себя и не уподоблялась тем персонажам из притчи (Евангелие от Луки, 14,16–20), что отказываются идти на зов Бога, потому что один купил землю, другой волов, а третий как раз вступил в брак. У нее не было ни земли, ни волов, ни брака — ничего, кроме несговорчивой совести. Кроме неразделенной воли к абсолютному.
Она была француженка и еврейка, и ей довелось жить во времена, когда гитлеризм угрожал национальному бытию французов и физическому бытию евреев, как никто и никогда. На борьбу с гитлеризмом она положила жизнь. Это не мешало ей высказывать такие жестокие укоризны французскому самодовольству и еврейскому высокомерию, каких не высказывал, кажется, ни один галлофоб и юдофоб. Оно и понятно: «фобы» вообще бранятся бездарно, потому что настоящие горькие истины можно высказать только изнутри, из опыта сопричастности, в пылу яростной, взыскующей любви. Став вне, отделившись, никогда по-настоящему не поймешь, что нe так. Человеческий суд причастен правде Божией только тогда, когда это суд над самим собой.
Изредка, но бывают такие дочери: умрет за мать, не моргнув глазом, но, пока обе живы, не пропустит матери ни одного бессердечного взгляда на соседку или нищенку, все выскажет, все выговорит своим ломким, но отчетливым голосом. А" мать, как бы ни злилась, будет помнить, что так дочь поступает прежде всего с самой собою. Совесть, как соль, как йод, — для ран мука, но и единственная защита от гниения.
Не приходится удивляться, что в соответствии с парадигмой человеческой судьбы Симоны Вейль и ее авторская судьба была и по сей день остается трудной. Да, о ней с глубоким уважением отзывались люди столь различные, как Габриэль Марсель, Т.С.Элиот… и С. де Бовуар (заявлявшая, что завидовала способности ее сердца «биться за весь мир»). Однако в негативных отзывах недостатка никогда не было. Положим, слова Л. Троцкого, прохаживавшегося насчет ее «реакционнейших предрассудков», ее «абсурдной» и «идеалистической» склонности выступать с защитой «так называемой личности», — мало на кого нынче произведут впечатление, как и деловое замечание генерала де Голля по поводу одного ее плана: «Эго все сумасшествие» («c'est de la folie»), растворилось в ушедшем контексте. Но определенные проблемы остаются вечно живыми. Вовсе не вызывая сочувствия у средней современной феминистки — уж больно аскетична, прямо средневековье какое-то! — Симона Вейль всегда будет тем более раздражать любого мужчину, если он привык спокойно и невозмутимо глядеть на мыслящую женщину сверху вниз, даже если это такой неглупый мужчина, как, скажем, Грэм Грин, выразивший свои эмоции в одной рецензии. Как вспоминал бывший однокашник: «Знавал я Симону Вейль по лицею Генриха IV, вот была неудобоваримая особа!» Перечень можно продолжить. Для истового еврейского патриота, для ревнителя иудаизма она — в лучшем случае чужая, что, впрочем, не смягчит сердце юдофоба, который разве что усмотрит в пей еще один пример пресловутой «ненависти к себе» (каковую, по известной теории, еврею просто полагается иметь). Далее, для безбожников она — неисправимая религиозная фанатичка, зато для верующих — гордячка, притом на каждом шагу впадающая в ереси. (Что уж, если только что названный Г. Грин, который был хоть и католик, но весьма, весьма вольнодумный, — в споре с ним во время его приезда в Москву пишущему эти строки случилось отстаивать принцип вероучения, — и тот попрекнул ее в той же рецензии опасными отклонениями от ортодоксии! Впрочем, ереси у нее, бесспорно, имеются, в частности, для ортодоксального христианина неприемлемо ее негативное, маркионистское отношение к Ветхому Завету.) Неизбежную константу реакции на ее облик и мысль хорошо выразил Т.С.Элиот в своем предисловии к английскому переводу «Укоренения»: «Симона Вейль имела задатки святости… Потенциальный святой может быть очень трудной личностью; подозреваю, что Симоне Вейль случалось бывать непереносимой. То тут, то там тебя задевает контраст между почти сверхчеловеческим смирением — и тем, что легко принять за оскорбительное высокомерие». Но мы поминали выше Киркегора и Достоевского: разве было с ними легко современникам, и разве легко с ними читателю? Да ведь еще и Сократ сумел насолить афинянам. |
| | Комментариев: 1 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Завтра была война…Васильев Борис
Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен: состояние покоя и довольства собой порождает леность души.
— Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму, она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
— У, еще какая сила! — опять перебила Роза: она очень любила перебивать по живости характера. — Силища! Только не для того, для чего ты думаешь. Женщина не потому силища, что камни может ворочать похлеще мужика, а потому она силища, что любого мужика может заставить ворочать эти камни. Ну и пусть они себе ворочают, а мы будем заставлять.
— Как это — заставлять? — Искра начала сердиться, поскольку серьезный разговор не получался. — Принуждать, что ли? Навязывать свою волю? Стоять с кнутом, как плантатор? Как?
— Как? Ручками, ножками, губками. — Роза вдруг оставила утюг и гордо прошлась по комнате, выпятив красивую грудь. — Вот я какая, видишь? Скажешь, не сильная? Ого! Мой парень как посмотрит на меня, так не то что камни — железо перегрызет! Вот это и есть наша сила. Хотите, чтобы мы увеличили производительность труда? Пожалуйста, увеличим. Только дайте нам наряды, дайте нам быть красивыми — и наши парни горы свернут! Да они за нашу красивую улыбку, за нашу нежность…
— В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первая -всегда самая страшная, но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.
— Может быть, следует тренироваться жить?
— Мое будущее! — горько усмехнулась дочь. — Ах, мама, мама! Не ты ли учила меня, что лучшее будущее-это чистая совесть?
— Совесть перед обществом, а не…
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :4]]> ]]> :4]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :5]]> ]]> :5]]> ]]> :4]]> ]]> :4]]> ]]> :4]]> ]]> :4]]> ]]> :6]]> :6]]>  :0 ]]> :0 ]]> :4]]> :4]]> |
|
|  | | | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :4]]> ]]> :4]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :3]]> ]]> :3]]> ]]> :4]]> ]]> :4]]> ]]> :3]]> ]]> :3]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
The Raven
by Edgar Allan Poe (1845)
Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
`'Tis some visitor,' I muttered, `tapping at my chamber door -
Only this, and nothing more.'
Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; - vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow - sorrow for the lost Lenore -
For the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore -
Nameless here for evermore.
And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me - filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating
`'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door -
Some late visitor entreating entrance at my chamber door; -
This it is, and nothing more,'
Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
`Sir,' said I, `or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you' - here I opened wide the door; -
Darkness there, and nothing more.
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, `Lenore!'
This I whispered, and an echo murmured back the word, `Lenore!'
Merely this and nothing more.
Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
`Surely,' said I, `surely that is something at my window lattice;
Let me see then, what thereat is, and this mystery explore -
Let my heart be still a moment and this mystery explore; -
'Tis the wind and nothing more!'
Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore.
Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door -
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door -
Perched, and sat, and nothing more.
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
`Though thy crest be shorn and shaven, thou,' I said, `art sure no craven.
Ghastly grim and ancient raven wandering from the nightly shore -
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'
Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning - little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door -
Bird or beast above the sculptured bust above his chamber door,
With such name as `Nevermore.'
But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only,
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing further then he uttered - not a feather then he fluttered -
Till I scarcely more than muttered `Other friends have flown before -
On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before.'
Then the bird said, `Nevermore.'
Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
`Doubtless,' said I, `what it utters is its only stock and store,
Caught from some unhappy master whom unmerciful disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore -
Till the dirges of his hope that melancholy burden bore
Of "Never-nevermore."'
But the raven still beguiling all my sad soul into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore -
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore
Meant in croaking `Nevermore.'
This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!
Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.
`Wretch,' I cried, `thy God hath lent thee - by these angels he has sent thee
Respite - respite and nepenthe from thy memories of Lenore!
Quaff, oh quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'
`Prophet!' said I, `thing of evil! - prophet still, if bird or devil! -
Whether tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted -
On this home by horror haunted - tell me truly, I implore -
Is there - is there balm in Gilead? - tell me - tell me, I implore!'
Quoth the raven, `Nevermore.'
`Prophet!' said I, `thing of evil! - prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us - by that God we both adore -
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels named Lenore -
Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels named Lenore?'
Quoth the raven, `Nevermore.'
`Be that word our sign of parting, bird or fiend!' I shrieked upstarting -
`Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! - quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!'
Quoth the raven, `Nevermore.'
And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted - nevermore!
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Ворон
Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного,
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,
Будто глухо так застукал в двери дома моего.
"Гость, - сказал я, - там стучится в двери дома моего,
Гость - и больше ничего".
Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер,
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченья от печали по утраченной Линор,
По святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Линор,-
Безыменной здесь с тех пор.
Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
"Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость какой-то запоздалый у порога моего,
Гость - и больше ничего".
И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга.
"Извините, сэр иль леди, - я приветствовал его, -
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,
Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал", - дверь открыл я: никого,
Тьма - и больше ничего.
Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грезы, что еще не снились никому до этих пор;
Тщетно ждал я так однако, тьма мне не давала знака,
Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: "Линор!"
Это я шепнул, и эхо прошептало мне: "Линор!"
Прошептало, как укор.
В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери
И услышал звук такой же, но отчетливей того.
"Это тот же стук недавний, - я сказал, - в окно за ставней,
Ветер воет неспроста в ней у окошка моего,
Это ветер стукнул ставней у окошка моего, -
Ветер - больше ничего".
Только приоткрыл я ставни - вышел Ворон стародавний,
Шумно оправляя траур оперенья своего;
Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо,
С видом леди или лорда у порога моего,
На Паллады бюст над дверью у порога моего
Сел - и больше ничего.
И очнувшись от печали, улыбнулся я вначале,
Видя важность черной птицы, чопорный ее задор.
Я сказал: "Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,
О зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?"
Каркнул Ворон: "Nevermore."
Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей,
Хоть ответ ее без смысла, невпопад, был явный вздор:
Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться,
Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор,
Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор,
Птица с кличкой "Nevermore."
Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти
Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор.
Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши,
И шепнул я вдруг, вздохнувши: "Как друзья с недавних пор,
Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор".
Каркнул Ворон: "Nevermore!".
При ответе столь удачном вздрогнул я в затишье мрачном,
И сказал я: "Несомненно, затвердил он с давних пор,
Перенял он это слово от хозяина такого,
Кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор,
Похоронный звон надежды и свой смертный приговор
Слышал в этом "nevermore".
И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали,
Кресло к Ворону придвинул, глядя на него в упор,
Сел на бархате лиловом в размышлении суровом,
Что хотел сказать тем словом Ворон, вещий с давних пор,
Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор,
Хриплым карком: "Nevermore."
Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадной,
Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзал горящий взор,
Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной
Я хотел уже склониться на подушку на узор,
Ах, она здесь не склонится на подушку на узор
Никогда, о nevermore!
Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма
И ступили серафимы в фимиаме на ковер.
Я воскликнул: "О несчастный, это Бог от муки страстной
Шлет непентес, исцеленье от любви твоей к Линор!
Пей непентес, пей забвенье и забудь свою Линор!"
Каркнул Ворон: "Nevermore."
Я воскликнул: "Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор
Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу.
Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор,
Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?"
Каркнул Ворон: "Nevermore."
Я воскликнул: "Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли в Эдеме лучезарную Линор -
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?"
Каркнул Ворон: "Nevermore."
"Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! -
Я вскочив, воскликнул. - С бурей уносись в ночной простор,
Не оставив здесь, однако, черного пера, как знака
Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор
Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной простор!"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"
И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте,
И под люстрой в позолоте на полу он тень простер,
Никогда душой из этой тени не взлечу я с этих пор
Никогда, о nevermore!
Перевод М. Зенкевича
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |

Эдгар Аллан По стихотворение "Ворон"
Ворон [color][size][font]
Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, - вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался - постучался в дверь ко мне.
"Это, верно, - прошептал я, - гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне".
Ясно помню... Ожиданье... Поздней осени рыданья...
И в камине очертанья тускло тлеющих углей...
О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа
На страданье без привета, на вопрос о ней, о ней -
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней, -
О светиле прежних дней.
И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
"Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине -
Гость стучится в дверь ко мне".
"Подавив свои сомненья, победивши спасенья,
Я сказал: "Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, - и стук неясный
Слишком тих был, стук неясный, - и не слышал я его,
Я не слышал..." Тут раскрыл я дверь жилища моего:
Тьма - и больше ничего.
Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
Лишь - "Ленора!" - прозвучало имя солнца моего, -
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, -
Эхо - больше ничего.
Вновь я в комнату вернулся - обернулся - содрогнулся, -
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
"Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
Там, за ставнями, забилось у окошка моего,
Это - ветер, - усмирю я трепет сердца моего, -
Ветер - больше ничего".
Я толкнул окно с решеткой, - тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел - и сел над ней.
От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
"Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно, -
Я промолвил, - но скажи мне: в царстве тьмы, где ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где ночь царит всегда?"
Молвил Ворон: "Никогда".
Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало.
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь, когда -
Сел над дверью говорящий без запинки, без труда
Ворон с кличкой: "Никогда".
И взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове "Никогда",
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он, -
Я шепнул: "Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра он меня покинет, как надежды, навсегда".
Ворон молвил: "Никогда".
Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной.
"Верно, был он, - я подумал, - у того, чья жизнь - Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как теченье
Рек весной, чье отреченье от Надежды навсегда
В песне вылилось о счастьи, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда".
Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: "Это - Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловещий этим черным "Никогда",
Страшным криком: "Никогда".
Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой головой своей усталой
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я - один, на бархат алый - та, кого любил всегда,
Не прильнет уж никогда.
Но постой: вокруг темнеет, и как будто кто-то веет, -
То с кадильницей небесной серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: "Прости, мученье,
Это бог послал забвенье о Леноре навсегда, -
Пей, о, пей скорей забвенье о Леноре навсегда!"
Каркнул Ворон: "Никогда".
И вскричал я в скорби страстной: "Птица ты - иль дух ужасный,
Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда, -
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, - я молю, скажи, когда?"
Каркнул Ворон: "Никогда".
"Ты пророк, - вскричал я, - вещий! "Птица ты - иль дух зловещий,
Этим небом, что над нами, - богом, скрытым навсегда, -
Заклинаю, умоляя, мне сказать - в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?"
Каркнул Ворон: "Никогда".
И воскликнул я, вставая: "Прочь отсюда, птица злая!
Ты из царства тьмы и бури, - уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
Удались же, дух упорный! Быть хочу - один всегда!
Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь - всегда!"
Каркнул Ворон: "Никогда".
И сидит, сидит зловещий Ворон черный, Ворон вещий,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда.
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, - на полу дрожит всегда.
И душа моя из тени, что волнуется всегда.
Не восстанет - никогда!
(1894) Перевод К. Бальмонта
2
[/font][/size][/color]
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
радиция. Древняя традиция стихосложения в Японии, передаваемая из поколения в поколение, выработала свои правила и манеры письма. Эти правила незыблемы, точно так же как все остальное японское – например, сад 13 камней, суши и подогретое сакэ. Следование традициям в крови всех японцев и японистов — всех тех, кто интересуется историей и современностью Японии.
Японская поэзия сильно отличается от европейской и других восточных стилей — китайского и индийского. Влияние дзен-буддизма привнесло свои правила минимализма и созерцательного погружения в предмет. Полного погружения в сознание и самосознание. Слова тут минимальны. Поэтому и в японской поэзии, несмотря на ее минимализм, каждое слово в стихе несет огромную информацию.
Основные стили в японской поэзии, дошедшей до нас практически в первозданном своем виде это:
Хокку — японское трехстишие
Танка — пятистишие.
Отличие одно от другого в количестве строк. Может быть, танка более широко раскрывает суть. Но хокку сильнее передает эмоциональность. Хокку выросло из танка.
Некоторые особенности хокку можно понять, только познакомившись с его историей. С течением времени танка (пятистишье) стала четко делиться на две строфы — трехстишие и двустишие. Случалось так, что один поэт слагал первую строфу, а второй последующую. Позднее, в 12 веке, появились стихи-цепи, состоящие из чередующихся трехстиший и двустиший. Эта форма получила название рэнга (буквально «нанизанные строки») и первое трехстишие называлось «Начальной строфой», по-японски — хокку. Эта начальная строфа была самой сильной и самой лучшей во всей цепи строк, и с течением времени выделилась как отдельный стих.
Хокку выросло из развлечения древнеяпонских крестьян в придворное стихосложение. При дворе каждого японского императора жили свои придворные поэты, которые были даже выходцами из простых семейств, но усилиями, трудом, своим творчеством достигли высочайших результатов в написании хокку — в стихотворном жизнеописании придворных интриг, природы, любви и страстей. Хокку — лирическое стихотворение. Оно изображает в основном жизнь природы и жизнь человека в их слитном нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.
Высочайшее искусство написания хокку и строгое соблюдение правила 5-7-5 в тексте не позволяло многим поэтам стать известными. Самые известные в Японии поэты в жанре хокку это Басэ и Исса, посвятившие жизнь свою искусству и оттачиванию поэзии хокку, создания школы хокку и кодекса правил стиха.
Хокку обладает устойчивым метром и искусство писать хокку – это, прежде всего, умение сказать многое в немногих словах.
Сказано слово —
Леденелые губы
Осенним вихрем!
[color][size][font] Сложно, очень сложно вложить в семнадцать слогов всю силу природы, все мощь пространства и печаль жизни. Поэтому и произведения, выполненные по правилам, сильнее на слух и шире по восприятию слушателями чем стихи иного слога. Правило 5-7-5 в хокку твердо соблюдается и в современных стихах новых поэтов. Традиция. Бережное отношение к древности и прошлому, строгое соблюдение и выполнение норм и правил написания сделало этот стих подлинным произведением искусства, которое выделено в Японии в отдельное существо. Как искусство каллиграфии, например. Трехстишие хокку прочно утвердилось в Японской поэзии и обрело подлинную глубокую емкость во второй половине семнадцатого века и на непревзойденную художественную высоту поднял его великий поэт Японии Мацуо Басэ, создатель не только поэзии хокку но и целой эстетической школы японской поэтики. Басэ совершил переворот в поэзии хокку, вдохнув в нее всю жизненную правду, очистив от поверхностного комизма и выделив правило 5-7-5, за которым до сих пор ревностно следят профессионалы современности. Задача каждого поэта хокку — заразить читателя лирическим волнением, разбудить его воображение, а для этого совсем не нужно рисовать картину во всех ее деталях. Достаточно немного слогов. Всего семнадцать слогов погружает читателя в иной мир, полный чувственности и расширенного восприятия. Небо печально
Утро казалось чужим
Без солнца лучей.
[/font][/size][/color]
| | Комментариев: 1 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
https://www.youtube.com/watch?v=vmEzLdINA00
Мое бумажное счастье
(Колыбельная Кайла)
1 куплет:
В книгах много добра и зла,
и любви в ней безмерно много.
У меня за спиной два крыла
И вперед ведет только одна дорога.
А она стоит у окна
Смотрит на мир сквозь опущенные ресницы.
И ночами не может спать
держа книгу в руках,
она снова ждет своего принца.
Я хочу лучом солнца стать,
нежно-нежно к лицу прикоснуться.
Но могу лишь об этом мечтать,
Петь ей песню,
до тех пор пока она не сможет проснуться.
Позолота ее волос
И глаза с синевою неба,
нежность рук, трепет ее слез -
рушат жизнь мою, где бы я не был...
Припев:
Спи, принцесса моя, спи
Страхи сон твой пускай не тревожат.
Где-то ждет тебя принц в дали.
И любовь, прям как в сказке, может.
И пусть я не герой из книг,
но без остатка в тебе растворился.
Все, что было - поставил на кон.
С неба пал я, но не разбился.
2 куплет:
Я держу тебя на руках,
Пальцами локоны перебираю.
Мое сердце бьется так сильно
и что делать с ним я не знаю.
В тебе нежности миллион,
А глаза словно мир - большие.
Знаешь, милая, кажется я влюблен.
Говорю тебе это и даже не фальшивлю.
И пускай за спиной два крыла,
А впереди будет много ненастий
Я смогу тебе подарить,
хоть и бумажное, но все таки счастье.
Позолота ее волос
И глаза с синевою неба,
нежность рук, трепет ее слез -
рушат жизнь мою, где бы я не был...
Припев:
Спи, принцесса моя, спи
Страхи сон твой пускай не тревожат
Где-то ждет тебя принц в дали
И любовь, прям как в сказке, может.
И пусть я не герой из книг,
но без остатка в тебе растворился.
Все, что было - поставил на кон.
С неба пал я, но не разбился.

| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :3]]> ]]> :3]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :3]]> ]]> :3]]> ]]> :2]]> ]]> :2]]> ]]> :2]]> ]]> :2]]> ]]> :2]]> :2]]>  :0 ]]> :0 ]]> :5]]> :5]]> |
|
|  | | | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :1]]> ]]> :1]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :1]]> ]]> :1]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :1]]> ]]> :1]]> ]]> :5]]> :5]]>  :0 ]]> :0 ]]> :2]]> :2]]> |
|
|  |
вот это невезение!
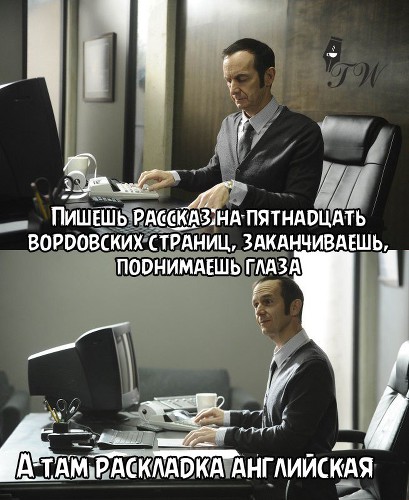
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :1]]> ]]> :1]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :2]]> ]]> :2]]> ]]> :1]]> ]]> :1]]> ]]> :3]]> ]]> :3]]> ]]> :3]]> :3]]>  :0 ]]> :0 ]]> :1]]> :1]]> |
|
|  | | | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :1]]> ]]> :1]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :2]]> ]]> :2]]> ]]> :3]]> ]]> :3]]> ]]> :1]]> ]]> :1]]> ]]> :1]]> :1]]>  :0 ]]> :0 ]]> :1]]> :1]]> |
|
|  | | | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  | | | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Иосиф Бродский. Нобелевская лекция
Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной
роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно
далеко -- и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в
демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, -- оказаться
внезапно на этой трибуне -- большая неловкость и испытание.
Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до
меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог
обратиться, что называется, "урби эт орби" с этой трибуны и чье общее
молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.
Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то
простое соображение, что -- по причинам прежде всего стилистическим --
писатель не может говорить за писателя, особенно -- поэт за поэта; что,
окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост,
Анна Ахматова, Уинстон Оден, они невольно бы говорили за самих себя, и,
возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость.
Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком
случае они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь
себе как бы их суммой -- но всегда меньшей, чем любая из них, в отдельности.
Ибо быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и в жизни,
и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они не были, заставляют
меня часто -- видимо, чаще, чем следовало бы -- сожалеть о движении времени.
Если тот свет существует -- а отказать им в возможности вечной жизни я не
более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой -- если тот свет
существует, то они, надеюсь, простят мне и качество того, что я собираюсь
изложить: в конце концов, не поведением на трибуне достоинство нашей
профессии мерится.
Я назвал лишь пятерых -- тех, чье творчество и чьи судьбы мне дороги,
хотя бы по тому, что, не будь их, я бы как человек и как писатель стоил бы
немногого: во всяком случае я не стоял бы сегодня здесь. Их, этих теней --
лучше: источников света -- ламп? звезд? -- было, конечно же, больше, чем
пятеро, и любая из них способна обречь на абсолютную немоту. Число их велико
в жизни любого сознательного литератора; в моем случае оно удваивается,
благодаря тем двум культурам, к которым я волею судеб принадлежу. Не
облегчает дела также и мысль о современниках и собратьях по перу в обеих
этих культурах, о поэтах и прозаиках, чьи дарования я ценю выше собственного
и которые, окажись они на этой трибуне, уже давно бы перешли к делу, ибо у
них есть больше, что сказать миру, нежели у меня.
Поэтому я позволю себе ряд замечаний -- возможно, нестройных, сбивчивых
и могущих озадачить вас своей бессвязностью. Однако количество времени,
отпущенное мне на то, чтобы собраться с мыслями, и самая моя профессия
защитят меня, надеюсь, хотя бы отчасти от упреков в хаотичности. Человек
моей профессии редко претендует на систематичность мышления; в худшем
случае, он претендует на систему. Но это у него, как правило, заемное: от
среды, от общественного устройства, от занятий философией в нежном возрасте.
Ничто не убеждает художника более в случайности средств, которыми он
пользуется для достижения той или иной -- пусть даже и постоянной -- цели,
нежели самый творческий прцесс, процесс сочинительства. Стихи, по слову
Ахматовой, действительно растут из сора; корни прозы -- не более благородны.
[color][size]
Если искусство чему-то и учит (и художника -- в первую голову), то
именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней -- и
наиболее буквальной -- формой частного предпринимательства, оно вольно или
невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности,
уникальности, отдельности -- превращая его из общественного животного в
личность. Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную -- но
не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке. Произведения искусства,
литературы в особенности и стихотворение в частности обращаются к человеку
тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. За это-то и
недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в
частности ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической
необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение,
они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия -- равнодушие и
разноголосие, на месте решимости к действию -- невнимание и брезгливость.
Иными словами, в нолики, которыми ревнители общего блага и повелители масс
норовят оперировать, искуство вписывает "точку-точку-запятую с минусом",
превращая каждый нолик в пусть не всегда привлекательную, но человеческую
рожицу.
Великий Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как
обладающую "лица необщим выраженьем". В приобретении этого необщего
выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к
необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо от того,
является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтобы
прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым
благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна,
и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Было бы досаднно израсходовать
этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на
тавтологию -- тем более обидно, что глашатаи исторической необходимости, по
чьему наущению человек на тавтологию эту готов согласиться, в гроб с ним
вместе не лягут и спасибо не скажут.
Язык и, думается, литература -- вещи более древние, неизбежные,
долговечные, чем любая форма общественной организации. Негодование, ирония
или безразличие, выражаемое литературой по отношению к государству, есть, по
существу, реакция постоянного, лучше сказать -- бесконечного, по отношению к
временному, ограниченному. По крайней мере, до тех пор пока государство
позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право
вмешиваться в дела государства. Политическая система, форма общественного
устройства, как всякая система вообще, есть, по определению, форма
прошедшего времени, пытающаяся навязать себя настоящему (а зачастую и
будущему), и человек, чья профессия язык, -- последний, кто может позволить
себе позабыть об этом. Подлинной опасностью для писателя является не только
возможность (часто реальность) преследований со стороны государства, сколько
возможность оказаться загипнотизированным его, государства, монструозными
или претерпевающими изменения к лучшему -- но всегда временными --
очертаниями.
Философия государства, его этика, не говоря уже о его эстетике --
всегда "вчера"; язык, литература -- всегда "сегодня" и часто -- особенно в
случае ортодоксальности той или иной системы -- даже и "завтра". Одна из
заслуг литературы и состоит в том, что она помогает человеку уточнить время
его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе
подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почетным
названием "жертвы истории". Искуство вообще и литература в частности тем и
замечательно, тем и отличается от жизни, что всегда бежит повторения. В
обыденной жизни вы можете рассказать один и тот же анекдот трижды и трижды,
вызвав смех, оказаться душою общества. В искусстве подобная форма поведения
именуется "клише". Искусство есть орудие безоткатное, и развитие его
определяется не индивидуальностью художника, но динамикой и логикой самого
материала, предыдущей историей средств, требующих найти (или подсказывающих)
всякий раз качественно новое эстетическое решение. Обладающее собственной
генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство не синонимично, но, в
лучшем случае, параллельно истории, и способом его существования является
создание всякий раз новой эстетической реальности. Вот почему оно часто
оказывается "впереди прогресса", впереди истории, основным инструментом
которой является -- не уточнить ли нам Маркса? -- именно клише.
На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто
писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях
языком улицы, языком толпы. При всей своей кажущейся демократичности и и
осязаемых практических выгодах для писателя, утверждение это вздорно и
представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу,
истории. Только если мы решили, что "сапиенсу" пора остановиться в своем
развитии, литературе следует говорить на языке народа. В противном случае
народу следует говорить на языке литературы. Всякая новая эстетическая
реальность уточняет для человека реальность этическую. Ибо эстетика -- мать
этики; понятие "хорошо" и "плохо" -- понятия прежде всего эстетические,
предваряющие категории "добра" и "зла". В этике не "все позволено" потому,
что в эстетике не "все позволено", потому что количество цветов в спектре
ограничено. Несмышленый младенец, с плачем отвергающий незнакомца или,
наоборот, тянущийся к нему, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно
совершая выбор эстетический, а не нравственный.
Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание --
всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает
человека, ее переживаюшего, лицом еще более частным, и частность эта,
обретающая порою форму литературного (или какого-либо другого) вкуса, уже
сама по себе может оказаться если не гарантией, то хотя бы формой защиты от
порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее
восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме
политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является
гарантией шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда
плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его
вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее -- хотя, возможно,
и не счастливее.
Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом смысле следует
понимать замечание Достоевского, что "красота спасет мир", или высказывание
Мэтью Арнольда, что "нас спасет поэзия". Мир, вероятно, спасти уже не
удастся, но отдельного человека всегда можно. Эстетическое чутье в человеке
развивается весьма стремительно, ибо, даже не полностью отдавая себе отчет в
том, чем он является и что ему на самом деле необходимо, человек, как
правило, инстинктивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает. В
антропологическом смысле, повторяю, человек является существом эстетическим
прежде, чем этическим. Искусство поэтому, в частности литература, не
побочный продукт видового развития, а ровно наоборот. Если тем, что отличает
нас от прочих представителей животного царства, является речь, то
литература, и в частности, поэзия, будучи высшей формой словестности,
представляет собою, грубо говоря, нашу видовую цель.
Я далек от идеи поголовного обучения стихосложению и композиции; тем не
менее, подразделение людей на интеллигенцию и всех остальных представляется
мне неприемлемым. В нравственном отношении подразделение это подобно
подразделению общества на богатых и нищих; но, если для существования
социального неравенства еще мыслимы какие-то чисто физические, материальные
обоснования, для неравенства интеллектуального они немыслимы. В чем-чем, а в
этом смысле равенство нам гарантировано от природы. Речь идет не об
образовании, а об образовании речи, малейшая приближенность которой чревата
вторжением в жизнь человека ложного выбора. Сушествование литературы
подразумевает существование на уровне литературы -- и не только нравственно,
но и лексически. Если музыкальное произведение еще оставляет человеку
возможность выбора между пассивной ролью слушателя и активной исполнителя,
произведение литературы -- искусства, по выражению Монтале, безнадежно
семантического -- обрекает его на роль только исполнителя.
В этой роли человеку выступать, мне кажется, следовало бы чаще, чем в
какой-либо иной. Более того, мне кажется, что роль эта в результате
популяционного взрыва и связанной с ним все возрастающей атомизацией
общества, т. е. со все возрастающей изоляцией индивидуума, становится все
более неизбежной. Я не думаю, что я знаю о жизни больше, чем любой человек
моего возраста, но мне кажется, что в качестве собеседника книга более
надежна, чем приятель или возлюбленная. Роман или стихотворение -- не
монолог, но разговор писателя с читателем -- разговор, повторяю, крайне
частный, исключающий всех остальных, если угодно -- обоюдно
мизантропический. И в момент этого разговора писатель равен читателю, как,
впрочем, и наоборот, независимо от того, великий он писатель или нет.
Равенство это -- равенство сознания, и оно остается с человеком на всю жизнь
в виде памяти, смутной или отчетливой, и рано или поздно, кстати или
некстати, определяет поведение индивидуума. Именно это я имею в виду, говоря
о роли исполнителя, тем более естественной, что роман или стихотворение есть
продукт взаимного одиночества писателя и читателя.
В истории нашего вида, в истории "сапиенса", книга -- феномен
антропологический, аналогичный по сути изобретению колеса. Возникшая для
того, чтоб дать нам представление не столько о наших истоках, сколько о том,
на что "сапиенс" этот способен, книга является средством перемещения в
пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы. Перемещение это,
в свою очередь, как всякое перемещение, оборачивается бегством от общего
знаменателя, от попытки навязать знаменателя этого черту, не поднимавшуюся
ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, нашему воображению.
Бегство это -- бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону
числителя, в сторону личности, в сторону частности. По чьему бы образу и
подобию мы не были созданы, нас уже пять миллиардов, и другого будущего,
кроме очерченного искусством, у человека нет. В противоположном случае нас
ожидает прошлое -- прежде всего, политическое, со всеми его массовыми
полицейскими прелестями.
Во всяком случае положение, при котором искусство вообще и литература в
частности является достоянием (прерогативой) меньшинства, представляется мне
нездоровым и угрожающим. Я не призываю к замене государства библиотекой --
хотя мысль эта неоднократно меня посещала -- но я не сомневаюсь, что,
выбирай мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не
основании их политических программ, на земле было бы меньше горя. Мне
думается, что потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать
прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а
о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому. Хотя бы уже по
одному тому, что насущным хлебом литературы является именно человеческое
разнообразие и безобразие, она, литература, оказывается надежным
противоядием от каких бы то ни было -- известных и будущих -- попыток
тотального, массового подхода к решению проблем человеческого существования.
Как система нравственного, по крайней мере, страхования, она куда более
эффективна, нежели та или иная система верований или философская доктрина.
Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один
уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступления против
литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не цензурные
ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление более
тяжкое -- пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек
расплачивается всей своей жизнью: если же преступление это совершает нация
-- она платит за это своей историей. Живя в той стране, в которой я живу, я
первый готов был бы поверить, что существует некая пропорция между
материальным благополучием человека и его литературным невежеством;
удерживает от этого меня, однако, история страны, в которой я родился и
вырос. Ибо сведенная к причинно-следственному минимуму, к грубой формуле,
русская трагедия -- это именно трагедия общества, литература в котором
оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской интеллигенции.
Мне не хочется распространяться на эту тему, не хочется омрачать этот
вечер мыслями о десятках миллионов человеческих жизней, загубленных
миллионами же, -- ибо то, что происходило в России в первой половине XX
века, происходило до внедрения автоматического стрелкового оружия -- во имя
торжества политической доктрины, несостоятельность которой уже в том и
состоит, что она требует человеческих жертв для своего осуществления. Скажу
только, что -- не по опыту, увы, а только теоретически -- я полагаю, что для
человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой
бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего.
И я говорю именно о чтении Диккенса, Стендаля, Достоевского, Флобера,
Бальзака, Мелвилла и т.д., т.е. литературы, а не о грамотности, не об
образовании. Грамотный-то, образованный-то человек вполне может, тот или
иной политический трактат прочтя, убить себе подобного и даже испытать при
этом восторг убеждения. Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер
тоже; Мао Цзедун, так тот даже стихи писал; список их жертв, тем не менее,
далеко превышает список ими прочитанного.
Однако, перед тем как перейти к поэзии, я хотел бы добавить, что
русский опыт было бы разумно рассматривать как предостережение хотя бы уже
потому, что социальная структура Запада в общем до сих пор аналогична тому,
что существовало в России до 1917 года. (Именно этим, между прочим,
объясняется популярность русского психологического романа XIX века на Западе
и сравнительный неуспех современной русской прозы. Общественные отношения,
сложившиеся в России в XX веке, представляются, видимо, читателю не менее
диковинными, чем имена персонажей, мешая ему отождествить себя с ними.)
Одних только политических партий, например, накануне октябрьского переворота
1917 года в России существовало уж никак не меньше, чем существует сегодня в
США или Великобритании. Иными словами, человек бесстрастный мог бы заметить,
что в определенном смысле XIX век на Западе еще продолжается. В России он
кончился; и если я говорю, что он кончился трагедией, то это прежде всего
из-за количества человеческих жертв, которые повлекла за собой наступившая
социальная и хронологическая перемена. В настоящей трагедии гибнет не герой
-- гибнет хор.
[/size][/color][color][size]
Хотя для человека, чей родной язык -- русский, разговоры о политическом
зле столь же естественны, как пищеварение, я хотел бы теперь переменить
тему. Недостаток разговоров об очевидном в том, что они развращают сознание
своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты. В этом их
соблазн, сходный по своей природе с соблазном социального реформатора, зло
это порождающего. Осознание этого соблазна и отталкивание от него в
определенной степени ответственны за судьбы многих моих современников, не
говоря уже о собратьях по перу, ответственны за литературу, из-под их перьев
возникшую. Она, эта литература, не была бегством от истории, ни заглушением
памяти, как это может показаться со стороны. "Как можно сочинять музыку
после Аушвица?" -- вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей,
может повторить тот же вопрос, заменив в нем название лагеря, -- повторить
его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в
сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. "А
как после Аушвица можно есть ланч?" -- заметил на это как-то американский
поэт Марк Стрэнд. Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае,
оказалось способным сочинить эту музыку.
Это поколение -- поколение, родившееся именно тогда, когда крематории
Аушвица работали на полную мощность, когда Сталин пребывал в зените
богоподобной, абсолютной, самой природой, казалось, санкционированной
власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы продолжить то, что теоретически
должно было прерваться в этих крематориях и в безымянных общих могилах
сталинского архипелага. Тот факт, что не все прервалось, -- по крайней мере
в России, -- есть в немалой мере заслуга моего поколения, и я горд своей к
нему принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня. И
тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения
перед культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил -- перед мировой
культурой. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом --
точней, на пугающем своей опустошенностью месте, и что скорей интуитивно,
чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности
культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих
уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным,
новым или казавшимся нам таковым, современным содержанием.
Существовал, вероятно, другой путь -- путь дальнейшей деформации,
поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекшегося дыхания. Если мы от
него отказались, то вовсе не потому, что он казался нам путем
самодраматизации, или потому, что мы были чрезвычайно одушевлены идеей
сохранения наследственного благородства известных нам форм культуры,
равнозначных в нашем сознании формам человеческого достоинства. Мы
отказались от него, потому что выбор на самом деле был не наш, а выбор
культуры -- и выбор этот был опять-таки эстетический, а не нравственный.
Конечно же, человеку естественнее рассуждать о себе не как об орудии
культуры, но, наоборот, как об ее творце и хранителе. Но если я сегодня
утверждаю противоположное, то это не потому, что есть определенное
очарование в перефразировании на исходе XX столетия Плотина, лорда
Шефтсбери, Шеллинга или Новалиса, но потому, что кто-кто, а поэт всегда
знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле
диктат языка; что не язык является его инструментом, а он -- средством языка
к продолжению своего существования. Язык же -- даже если представить его как
некое одушевленное существо (что было бы только справедливым) -- к
этическому выбору не способен.
Человек принимается за сочинение стихотворения по разным соображениям:
чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношени к окружающей
его реальности, будь то пейзаж или государсво, чтоб запечатлеть душевное
состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить -- как он
думает в эту минуту -- след на земле. Он прибегает к этой форме -- к
стихотворению -- по соображениям, скорее всего, бессознательно-миметическим:
черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо,
напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции
пространствак его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется
за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из под его
пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, -- немедленное
последствие этого предприятия -- ощущение вступления в прямой контакт с
языком, точнее -- ощущение немедленного впадения в зависимость от оного, от
всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено.
Зависимость эта -- абсолютная, деспотическая, но она же и раскрепощает.
Ибо, будучи всегда старше, чем писатель, язык обладает еще колоссальной
центробежной энергией, сообщаемой ему его временным потенциалом -- то есть
всем лежащим впереди временем. И потенциал этот определяется не столько
количественным составом нации, на нем говорящей, хотя и этим тоже, сколько
качеством стихотворения, на нем сочиняемого. Достаточно вспомнить авторов
греческой или римской античности, достаточно вспомнить Данте. Создаваемое
сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих
языков в течение следующего тысячелетия. Поэт, повторяю, есть средство
существования языка. Или, как сказал великий Оден, он -- тот, кем язык жив.
Не станет меня, эти строки пишущего, не станет вас, их читающих, но язык, на
котором они написаны и на котором вы их читаете, останется не только потому,
что язык долговечнее человека, но и потому, что он лучше приспособлен к
мутации.
Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает
на посмертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его
переживет, пусть не надолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что
язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная
стихотворения, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой
оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше,
чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он расчитывал. Это и
есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее.
Существуют, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и
метод, которым пользовались библейские пророки -- посредством откровения.
Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу
всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и третьему), ибо все три
даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему
стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, -- и
дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его
прежде всего потому, что стихотворение -- колоссальный ускоритель сознания,
мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в
состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от
этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя.
Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и
называется поэтом.
(C) The Nobel Foundation. 1987.[/size][/color]
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Уходит женщина во мрак.
Безлюдный мост. Пустой кабак.
Не знают стёкла, почему
От них она идёт во тьму,
Зачем так злобен за спиной —
Лишь обернуться — свет стеной,
Но в зеркалах открытий нет —
И лучше в спину этот свет,
Чтобы глаза наелись тьмой
Над набережною немой,
Чтоб чудился в каштанах свист,
Чтоб фары чёрные цвели,
Захватывая жёлтый лист,
И — прочь. Туда. За край земли,
Где сон ещё не так пуглив,
Где поглощает мглы прилив
Тот мир, в котором просто так
Уходит женщина во мрак
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Снова снится старый сон,
как немой печальный крик, —
на картине Пикассо,
там, где мальчик и старик.
Голубой сиротский свет
смерк у мальчика в глазах.
А у старца их и нет —
только горечь, только страх.
Только долгий-долгий срок
испытаний, бед, тревог.
Только длинный-длинный путь,
что ведет куда-нибудь.
И, наверно, неспроста
выбрал мастер синий цвет,
чтобы мучить нас с холста
тьмой, в которой зреет свет!
Где вопрос тут, где ответ —
не пойму… В моем дому —
свет, в котором света нет.
Свет, в себе таящий тьму.
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Свет ты мой робкий, таинственный свет!
Нет тебе слов и названия нет.
Звуки пропали. И стихли кусты.
Солнце в дыму у закатной черты.
Парус в реке не шелохнется вдруг.
Прямо в пространстве повис виадук.
Равны права у небес и земли,
Город, как воздух, бесплотен вдали…
Свет ты мой тихий, застенчивый свет!
Облачных стай пропадающий след.
Вечер не вечер, ни тьмы, ни огня.
Молча стою у закатного дня.
В робком дыму, изогнувшись как лук,
Прямо в пространстве повис виадук.
Равны права у небес и земли.
Жёлтые блики на сердце легли.
Сколько над нами провеяло лет?
Полдень давно проводами пропет.
Сколько над нами провеяло сил?
Дым реактивный, как провод, застыл.
Только порою, стеклом промелькав,
Там вон беззвучно промчится состав.
Молча стою у закатного дня…
Свет ты мой тихий! Ты слышишь меня?
Свет ты мой робкий! Таинственный свет!
Нет тебе слов и названия нет.
Звуки пропали. И стихли кусты.
Солнце в дыму у закатной черты.
1969
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
В комнате
В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.
Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.
Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа...
Я иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.
Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча...
И тогда сползает лента черная
С низко обнаженного плеча.
1910
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
ИОСИФ БРОДСКИЙ - 1 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА
Волхвы забудут адрес твой.
Не будет звёзд над головой.
И только ветра сиплый вой
расслышишь ты, как встарь.
Ты сбросишь тень с усталых плеч,
задув свечу, пред тем как лечь,
поскольку больше дней, чем свеч
сулит нам календарь.
Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.
И молча глядя в потолок,
поскольку явно пуст чулок,
поймёшь, что скупость - лишь залог
того, что слишком стар.
Что поздно верить чудесам.
И, взгляд подняв свой к небесам,
ты вдруг почувствуешь, что сам -
чистосердечный дар.
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
|  |
Сретенье (1972)
|
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы |
Анне Ахматовой
Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он -- Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем." -- Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. "Слова-то какие..."
И старец сказал, повернувшись к Марии:
"В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око".
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
|
|
| | Комментариев: 0 | Поделиться: ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :]]> ]]> :]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :1]]> ]]> :1]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> ]]> :0]]> :0]]>  :0 ]]> :0 ]]> :0]]> :0]]> |
|
{"0":false,"o":30} |
{"0":false,"o":30} |
 ОТЗЫВЫ 750 513
ОТЗЫВЫ 750 513 БЛОГИ 30 260
БЛОГИ 30 260 КОММЕНТАРИИ 9 392
КОММЕНТАРИИ 9 392 ОТЗЫВЫ 750 513
ОТЗЫВЫ 750 513 БЛОГИ 30 260
БЛОГИ 30 260 КОММЕНТАРИИ 9 392
КОММЕНТАРИИ 9 392