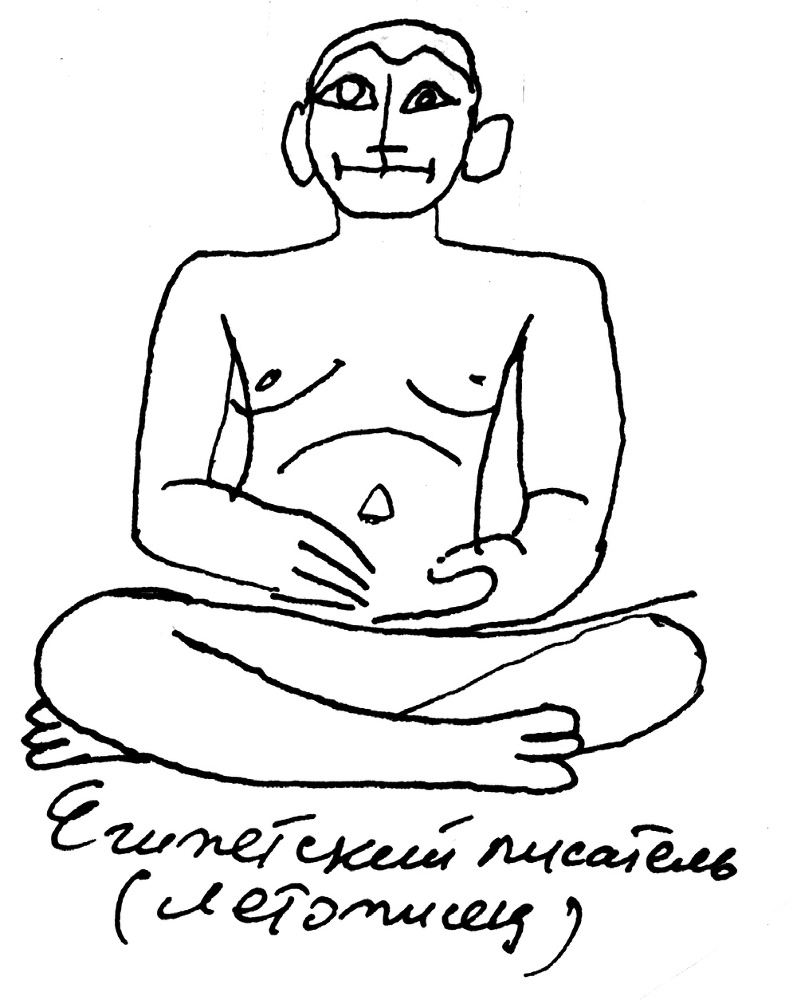
Вначале был бытовой рисунок. Потом за дело брались мастера. Здесь уже пошла летопись. Случилось какое-то событие, нужно его запомнить, не просто рассказать, но сохранить в памяти. Тот же самый прием рисования, но он уже организуется в нечто более компактное. Тема, начало, конец, от сих до сих. Нельзя бежать по берегу километрами и рисовать, рисовать, рисовать. Нужно где-то остановиться. Так возникают ограничения на плоскости. В формате, в размере, куда нужно втиснуться, разместиться. Так возникла композиция. Они рисовали вне пространства, им не нужно было передавать, где дальше, а где ближе. Плоскость изображения вполне достаточна и никакой перспективы им не требовалось. Но ограниченность пространства, справа налево и сверху вниз сжимала масштаб самого изображения. На примере Ассирии это хорошо видно. Стена есть, и на ней нужно всё разместить, в неё необходимо уложиться. Одновременно может ехать колесница с лошадьми, тут же река, волны, воины плывут на мешках, под ними плывут рыбы, а сверху – не дальше и не ближе – едет царь и слуги. Все это в одной плоскости. Потому что дальше стены деться некуда. А композиция – то ли есть, то ли нет. Она есть, потому что в ней есть ограничения, и ее нет в нашем понимании, потому что она не соответствует никаким законам. Куда нужно поместить фигуру, они ее туда и вставляют. И точка. Она может пересекаться с другими самым неблагоприятным образом, но это никакого значения не имеет. Та же деталь – рука, голова лошади, копыто быка или овца – все они настолько достоверны, и неважно, если одно зачеркнуто другим. Или колесо на него наезжает. Это совершенно не важно.

А вот дальнейшее развитие изображения уже шло за счет догадок. Что-то дальше, что-то ближе. Как это передать, как с этим справиться? У древних этой задачи не было, а ближе к нам стали ломать голову, как это все разместить. И где-то стала появляться перспектива. Вначале линейная, простенькая. Которая намекала, что у дома есть разные стороны. Та, которая развернута к нам, и та, которая от нас уходит. А среди людей есть те, которые от нас дальше, и поэтому они меньше. Не настолько, но все-таки меньше.
Это результат умственного развития, а не просто рисования. Здесь уже интеллект ставил задачи, а не само рисование. И вот что смешно. Сейчас, когда композиция разрушена полностью, изображение вернулось назад буквально в доисторические времена. Почему вернулось? Работать головой, когда все это открывали, было трудно. Нужно было решать целый ряд проблем. А в наше время происходят пугающие явления. Вроде бы, мы модернизируемся, имея в виду творческий процесс, ставим некие современные задачи, но сама модернизация идет за счет упрощения. Чем больше упрощаем, тем более мы модернисты. Нам так кажется. Мы придумываем, рассказываем друг другу, что мы придумали, вместе обсуждаем и решаем. Так тому и быть. Это уже не творчество, это договор. Те двигались тысячелетиями, медленно, изобретая, накапливая, мы решаем мгновенно, пришел самый авторитетный, надулся, крякнул, показал, сказал, и готово. Мы тут же старое отбрасываем, мы довольны. И провозглашаем новое завоевание. Забывая, что это уже было. Но тогда было по-другому, без договора, тогда это было открытием. А сейчас?
Вот мы рассматриваем искусство, отдаленное от нас. Мы учимся. Знакомятся те, кто интересуется. Рассматривают из любопытства, лениво. Нет вопросов. А если есть, то они характера бытового, так себе. А это что? А для чего это? Разговоры о сущности, о ценностных различиях между нашим временем и тем – древним о том, что они хотели нам передать, разговоры при этом рассматривании в интеллигентском круге почти неуместны. Все сводится к картинке самой по себе. А в художническом круге, элитном, так сказать, это почти праздный разговор. Потому что мы не прикладываем прошлое к себе. Мы не вникаем, прошлое отстранено от нас. Разве, если вдруг захочется сделать а-ля нечто. Зачерпнуть вдохновения. А сам текст, ради которого все и создавалось, от нас спрятан и добраться до него непросто. Подражать, это, пожалуйста. Но ходим мы по кругу. Конечно, удобнее говорить, что не совсем по кругу, а по спирали. Но если так, тогда вопрос. Чего больше – приобретений или потерь? И куда эта спираль ведет, вверх или вниз?

Древние технологии напоминают двадцатый век. Барельефы, горельефы. Это тысячелетний опыт. Откуда нам иначе его взять. И вот здесь появляются свои загадки. Возьмем голову ассирийского льва. Или собаки. На охоте. В ошейнике. Насколько внимательно выполнено изображение, все зубы сосчитаны. Выражение глаз. У людей выражение глаз одно и тоже. А у животных? Гораздо глубже. Эмоционально животные переданы гораздо сильнее. Он, она, для человека это больше статистика, перечет. Потому они все одинаковые – прически, носы. А животные все разные. Лошадиные головы – нет одинаковых. У одной уши так, у другой – иначе. Ноздри разные. Овцы, козлы, верблюды, бараны – разнообразны необычайно. Греки кормились больше от Мессопотамии, чем от Египта. Переплыть Эгейское море, хоть кораблики были хилые, но все же было можно, не очень большое расстояние. Переплыл, и ты уже в Малой Азии, а там до этой Мессопотамии какой-нибудь месяц хода. Войны, которые тогда велись, покрывали это пространство без проблем. Взял копье и пошел. Туда-сюда, туда-сюда. Типичная античная архаика, одно к одному. Греки за какие-нибудь тысячу лет сумели этот древний задел развить невероятно. Уже сами, в своем поиске. И пришли к тому, от чего уйти некуда. Сходство бросается в глаза. Это еще не греки Перикла, но греки Гомера – это точно. Влияние безусловное.
А теперь имперское искусство Рима. С одной стороны, от Греции отделить нельзя, потому что это его перепечатка, копия. По стилистике, по пониманию природы изображения это то же самое античное мышление. Явно греческое. Самостоятельных, характерных достижений, по-видимому, в римской культуре нет. Она развита, но списана с греческой с одним большим различием – с привнесением другого мировоззрения. Греческий типаж обобщен, они были людьми, но они же были и герои. А тут в Риме – конкретные, предельно узнаваемые живые лица. С обостренной характеристикой, мимикой, индивидуальными чертами. С походкой, позой. Тут адресные конкретные черты, их нельзя трактовать по-другому. Возьмем надгробную римскую скульптуру. Она имеет общечеловеческую, вневременную характеристику. В самом ее контексте вневременные черты, разговор с высшим началом, с богами. Мелкий человек сам по себе никого не интересует. Но он интересен, как тип. Пока ты держишься за землю – жанры могут быть разные, но, если обращаешься к вечности, нужно умело выбирать средства.
Непонятно, кто какими формами пользуется, мы – их, архаическими, или они – нашими – современными. Последующее национальное искусство возникает из общих тем. Из общего пра-рождения. Все решает степень сосредоточенности, чем больше творец сосредотачивается на предмете, тем более высокую задачу он ставит. Сосредоточение мобилизует, а сама потребность в сосредоточении – это социальная задача, она связана с ситуацией, в которой человек живет. Художник и в древние времена был предельно социально обособлен. Чтобы создать такие фигуры, так их разработать, он, оставшись в своем времени, должен был быть талантлив не менее Микельанджело. Наблюдая искусство Возрождения, мы находим его прототипы, мы видим, к кому они обращались во времени. А за теми – первыми мы ничего не видим. То искусство взялось как бы ниоткуда. Мы знаем, что это не так, но для нас там крайняя точка, откуда мы можем начать отсчет. Дальше наши гипотезы, догадки, предположения, но более дальних ориентиров у нас нет. А что там?