Вообще посады наши были не многолюдны. Разные бедствия, столь обильно изливаемые судьбой на Русь, оказывали постоянно вредные последствия на умножение населения посадов. На юге России никак не могли процветать посады, потому что беспрестанные набеги крымцев не давали народу возможности вести оседлую жизнь, тем более заботиться о житейских удобствах. Очень часто посещали Русь моровые поветрия; как страшно они опустошали посады, можно видеть из таких примеров, как, например, в Шуе, где в 1654 и 1655 годах после морового поветрия из 224 дворов вымерли совершенно обитатели 91 двора и после трех лет, в 1658 году, многие дворы еще оставались по той же причине пустыми. Дурное управление и тягости, возложенные на посадских от правительства, побуждали жителей оставлять свои жительства и шататься с места на место; другие, гонимые бедностью, закладывались частным владельцам или монастырям; иные постригались в монахи.
Выше показана скудость населения в Белозерске и Шуе; в других местах и в различное время представляется то же. Так, например, в 1574 году в Муроме было 738 дворовых мест, назначенных для поселения, но из них только 111 было жилых, 107 дворов со своими строениями стояли пустыми, а прочие места не были и застроены, или, может быть, бывшие на них строения уже исчезли. В 1637 году в Устюжне было всего 178 дворов, а людей в них 254 человека. Около того же времени или несколько позже в Чердыне было 304 двора, а в Соли-Камской 355; а эти города по своему местоположению, удаленному от внезапных набегов хищнических народов, и по приволью представляли возможность правильнейшего населения. В Холмогорах, которые стояли недалеко от моря и притом на главном торговом пути, в 1675 году было всего 645 дворов, а людей в них 1391 человек. Сама власть не способствовала развитию посадской жизни. Прежние цветущие города – Новгород, Псков, Тверь, потеряв свою гражданственность, теряли и свои богатства. Правительство, стремившееся к единовластию, не допускало в посадах развиться самоуправлению, которое всегда идет рука об руку с благосостоянием. При беспрерывных, неотвратимых бедствиях, побуждавших народ к шатанию, было невозможно, чтобы в посадах заботились о красоте и прочности постройки зданий; притом же пожары были самое повседневное и повсеместное явление. Москва, как известно, славилась многими историческими пожарами, губившими не только жилища, но и тысячи людей. Стоит припомнить пожар 1493 года, истребивший всю Москву и Кремль, славный пожар 1547 года, когда, кроме строений, сгорело более 2000 жителей, пожар 1591 года, доставивший Борису случай показать народу свою щедрость; пожары при Михаиле Федоровиче были так часты, что не обходилось без них ни одного месяца; иногда на них было такое плодородие, что они следовали один за другим каждую неделю, и даже случалось, что в одну ночь Москва загоралась раза по два или по три. Некоторые из этих пожаров были так опустошительны, что истребляли в один раз третью часть столицы. При Алексее Михайловиче Москва несколько раз испытывала подобные пожары, например, во время возмущения народного по поводу пошлины на соль в 1648 году, потом в 1664 и 1667 годах.
В других городах пожары были так же опустошительны; например, в Пскове в 1623 году был пожар, истребивший город дотла, так что жители, обеднев, долго не могли после этого оправиться. Несмотря, однако, на такие частые бедствия от огня, меры против него были вялы и преимущественно только предохранительные: старались делать пошире дворы, правительство приказывало ставить на кровли строений кадки с водой и мерники с помелами; запрещалось по ночам сидеть с огнем и топить летом мыльни и даже печи в избах, а вместо того жители должны были готовить себе пищу в огородах. Эта мера одна по себе была плохим средством, и притом не все ей подлежали: некоторым зажиточным хозяевам, так называемым служилым людям, по хорошим их отношениям с воеводами позволялось то, что вообще запрещалось другим; воевода мог разрешить топить летом избу, если находил, что день довольно пасмурен или влажен, и мыльню из снисхождения к больным и родильницам. Когда вспыхивал пожар, все действия против него ограничивались тем, что старались ломать строения, стоявшие близ горящих зданий. Только в Москве были некоторого рода обычные меры гашения огня при пожарах. При Михаиле Федоровиче существовали какие-то холстинные парусы саженей в пять длиной и щиты из лубьев с ручками. При Алексее Михайловиче велено было, чтобы все вообще зажиточные люди заводили у себя медные и деревянные трубы, а люди с меньшим достатком складывались вместе по пяти дворов для покупки одной трубы, и в случае пожара все должны были бежать для погашения.
V
Слободы
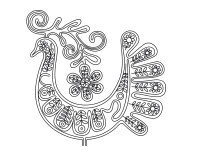
На Руси встречались слободы трех родов: служилых людей, промышленников и, наконец, вообще поселян, пользующихся льготами. К слободам служилых людей относились: стрелецкая, пушкарская, пищальная, затинщиков, воротников, казачьи, ямские. В них были поселены служилые люди одного какого-нибудь наименования, которые составляли корпорацию и исполняли определенную служебную обязанность в отношении правительства. Слободы этого рода пользовались особым управлением и особыми правами. По большей части они находились близ городов и составляли предместья посадов, если под городом находился посад. В некоторых местах, однако, особенно на юге Московского государства, место самого посада занимали слободы. Близ одного острога были слободы: стрелецкая, казачья и пушкарская, а посадских был один только двор; таким образом, весь посад хотя и числился существующим, но заключался в одном только дворе. Величина служилых слобод соизмерялась с потребностью военной силы по важности города, близ которого они были расположены; иногда они были очень не велики, например, человек в пятьдесят жителей и даже менее.
При исчислении слобод, находившихся близ Москвы, показаны роды промышленных, ремесленных и торговых слобод. Подобные названия встречались в разных местах Руси. Некоторые промышленные слободы были в то же время и служилые, потому что жители их были обязаны доставлять к царскому двору произведения своего труда и за то пользовались облегчительными льготами. Таковы были слободы бобровников, слободы рыбных ловцов, слободы сокольников и кречетников и прочее, жители которых обязаны были доставлять ко двору плоды своей охоты и рыбной ловли, точно так же как близ Москвы жители слободы Кадашевки занимались тканьем полотен и отбывали повинности доставкой своих произведений на потребности двора.
В Сибири, кроме служилых слобод, такое же название носили поселения, где жители занимались земледелием и пользовались льготами, которые давались новоприбывшим туда поселенцам в уважение к их недавней оседлости. В XVII веке служилые люди ходили по Руси и вербовали народ в Сибирь, заманивая обещаниями разных льгот; сверх того, для перехода давались охотникам подможные деньги. Эти поселенцы обязаны были пахать известное количество земли и, собирая с нее хлеб, доставлять его в города для прокормления служилых; такие слободы назывались пашенными.
VI
Сёла и деревни
Земледельческие жилые местности вообще по административному положению были черные тяглые, дворцовые, поместья и вотчины. Первые были государственные имения, вторые – собственность государя и его фамилии; поместья были казенными имениями, которые раздавались служащим людям как бы вместо жалованья за их службу: владелец не мог ни продать, ни заложить, ни завещать их, и хотя они очень часто переходили от отцов к детям, но не по праву наследства, а по новой отдаче от правительства, так что каждый раз, получая во владение отцовское поместье, сын должен был справлять его за собою, то есть приобретать от правительства на него право с обязанностью нести за это службу. Вотчины были собственностью владельцев. Вотчины были владычные, то есть принадлежавшие архиереям или соборам, или, как тогда говорилось, домам святых, например дому Пресвятой Богородицы, дому Софийскому, монастырские и, наконец, частных лиц, то есть бояр, окольничих, дворян и детей боярских.