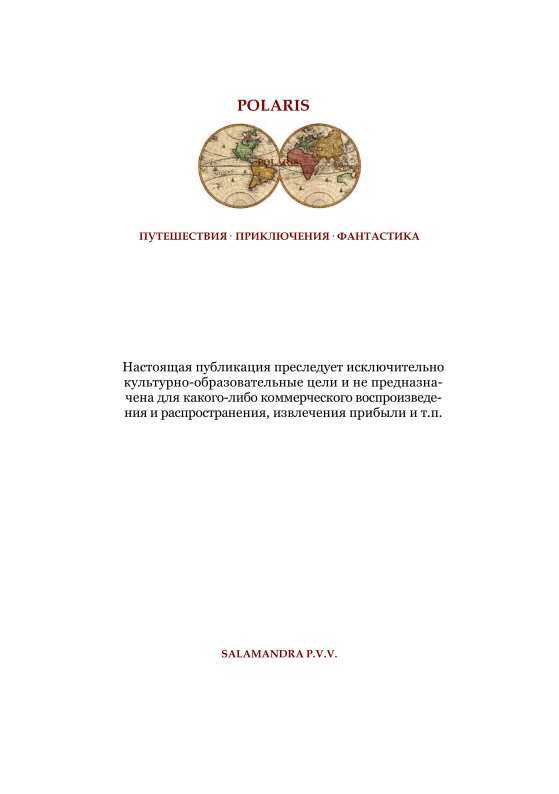II
У самой лавки Ивана Иваныча Трегубова, или Клопа, как прозывала лавочника вся русская колония золотоискателей, — приятели увидели мальчика лет 7-ми и девочку лет 9-ти, детей лавочника.
— Дядя Козой! Дядя Козой! Дай гостинца…
Одной костлявой, мозолистой рукой поглаживая головенки детей, покрытые оленьими «капшучками», — Козодой другой рукой пошарил в глубоких карманах своей меховой куртки и добыл оттуда два куска темного, черствого пряника, который дети ухватили и стали сосать, как-то опасливо косясь на Сапегу, стоящего туг же, в двух шагах.
Его они безотчетно не любили и боялись наравне со всеми остальными детьми поселка, занесенными волей злой судьбы в этот печальный, хотя и богатый золотом край.
Козодоя любили все малыши, как и он их любил, вечно сберегая в карманах либо пряник, либо немудреную игрушку для каждого встречного ребенка.
— А мамка дома? — мягким, слащаво-предательским голосом обратился к девочке Сапега.
— Мамка?.. Не! Мамка белье полоскать пошла.
Приятели переглянулись с довольной улыбкой.
— А… хочешь полтинник на пряники? — так же искренне-слащаво продолжал Сапега, подойдя поближе к девочке и впиваясь в нее взглядом, под влиянием которого ребенок словно окаменел, напугался, не имея сил двинуться с места.
— Хочу… — пролепетала девочка.
— Вот… бери! Только с уговором, — провожая взглядом двинувшихся к блокгаузу товарищей, но громко, быстро заговорил Сапега. — Я, вот видишь, — беру твои волосы. Вот, немножко… И дерну их… И если ты не крикнешь, — полтинник твой… Много купишь всего, много!.. Только не крикни, слышишь… вот!.. Молчи!.. молчи!..
— А…
Девочка подавила болезненный стон. Слезы покатились по ее побледневшему личику.
Сапега, сбрасывая с пальца пушистую прядку тонких, белесых волосиков, вырванных у ребенка, ткнул девочке в руку монету.
— Не крикнула. Молодец… бери, купи… ступай…
И он почти бегом нагнал остальных товарищей у самых дверей лавки.
III
— Здрасте-с! С добрым днем, с ясным. С удачей да с прибылью! — затараторил, встречая вошедших, Иван Иваныч, низко кланяясь из-за самодельной тяжелой стойки трем почетным покупателям.
Все трое давно уже напали на богатую жилу, считались богачами в поселке и уж по одному этому пользовались почетом не только среди кучки русских золотоискателей, но и среди представителей целого, мира, высланных сюда подонками больших городов всего земного шара.
Прилавок делил на две почти равные половины обширный, высокий, но плохо освещенный лабаз, заваленный всяким товаром.
Впереди прилавка, вдоль стен, почти до потолка, громоздились ящики, тюки, цыбики, мешки с товаром. А за прилавком грубые полки из толстых, неструганных досок почти гнулись от тяжести тех же товаров, распакованных для розничной, немедленной продажи и размещенных в самом причудливом беспорядке. Штуки ситца, холста и других, более дорогих тканей — высились рядом с огромными жестянками, наполненными кондитерским товаром. Тут же поблескивали стволами револьверы, карабины, лежало холодное оружие, — товар, особенно ходкий в поселке.
Кирки, лопаты и мотыги, как на пуховиках, лежали на выделанных мехах, на полушубках и оленьих одеждах, в которых зимой щеголяли посельщики.
Ручные мельницы, кухонная посуда, сапожный товар, пакля и туалетные принадлежности, скупаемые щеголихами по дорогой цене, — сухие овощи и маринады, аптекарские травы и часы, рукавицы и нефтяные двигатели небольшого размера, — все это переплеталось между собой, столь различное на первый взгляд. Но в этом полутемном сарае-лавке все товары как-то особенно подходили один к другому, были связаны в общую, занимательную для взора, пеструю картину.
Небольшая дверка, всегда приоткрытая, — темнела среди этого хаоса в стене за самой спиной Клопа, как щель, куда он мог юркнуть каждую минуту.
Все знали эту дверку, небольшую, толстую, которая сама замыкалась на тяжелые замки, стоило ее захлопнуть. Высокая и широкая стойка мешала внезапному нападению спереди; а дверка позади обеспечивала Клопу полную безопасность, если бы кто вздумал покушаться на его персону.
Конечно, можно издали выстрелить и убить. Но выстрел наделает шуму. Зря люди не ходят убивать, а если придут, то, конечно, для грабежа. А на выстрел, на шум — сбегутся со всех сторон…
Неписаные законы — жестоки и строго выполняются в этом поселке одичалых суровых людей. Каждого, пойманного при попытке на грабежах в пределах лагеря, — зароют по шею в землю и оставят околевать с голоду, а торчащая над землей голова будет служить мишенью для всяких издевательств и мучений.
Конечно, если и найдутся охотники пограбить Иван Иваныча, — они постараются сделать это без шума, пойдут на хитрости. А Иван Иваныч полагает, что он и сам не глуп, каждого хитреца — вокруг пальца… или, даже, еще хуже обведет!
Неловко сказать, что поминал при этом циничный Клоп.
IV
При виде троих приятелей, которые ввалились шумно, с улыбкой, суля барыши от больших закупок, производимых обычно без торга, — Иван Клоп искренне им обрадовался и особенно учтиво закивал головой, изогнулся грузным станом, причитая свои обычные приветствия.
Лицо его, полное, лоснящееся, налитое кровью всегда, — теперь совсем побагровело. Нельзя было различить губ, щек, носа: все отливало одним тоном пурпурной крови и в такую минуту становилось особенно понятно: почему прозвали его Клопом.
Не только по страсти к наживе за чужой счет, — купец и видом своим до смешного напоминал толстого, напившегося, круглого клопа, который еле ползет к себе в щель, переполненный кровью после удачной поживы.
— И давненько же не видались! С добрым часочком, милушки мои!.. Што не заглядывали… Али к Сун-Хою, к подлецу, к мошеннику, к китайцу поганому стали ходить?.. Так он же вас купит и продаст, душа нехрещенная!.. Ну, да милости просим, коли вспомнили, заглянули к дружку Иванычу!.. Есть товарец свеженький… И табачок, и водочка Смирновская!.. Милости просим! С ясным утречком вас, с добрым деньком!..
— Здоров, здоров, Иван Иваныч! И тебя с первым апрелем поздравляем! — прервал излияния Клопа Сапега, подойдя вплотную к стойке и усаживаясь на ней боком, для чего пришлось отодвинуть наваленные здесь гвозди, ремни и банку «Кунероля»[9].
— С первым апр… Ах-ха-ха-ха!.. А мне и невдомек: какой денек ныне? Забавный день, милуши мои! Господа честные… У нас, поди, в Рассее ноне как потешаются… морочат друг дружку. Словно бы круглый год еще обману мало! Смехотворный народ у нас в Рассее-матушке!..
— Верно, Клоп… верно, Иван Иваныч!.. Хорошее ты слово сказал. Весь год люди морочат друг друга. Надо бы хоть раз в году и правду сказать. А тут особый день выискали да норовят сверх всяких иных, тайных обманов, — еще явно, грубо поднадуть, насмеяться… Умная ты башка, Иван Клоп!.. И мы так же думали, вот все трое. За тем и к тебе заглянули. Приятно, что ты с нами заодно полагаешь.
Не любил Иван Иваныч, когда его Клопом, да еще в глаза называют. Но тут польстило его самолюбию, что он сошелся в мыслях с тремя умнейшими, самыми влиятельными из искателей поселка.
Еще шире заулыбался он и запричитал еще быстрее.
— Так, так, милуши мои, господа хорошие! Вестимо, глуп народ, как овца; живет без думки, без розуму… Штобы ему хоша разочек душу-то пооблегчить, вот, ровно перед попом на исповеди… И легше б стало. А люди и без нужды врут, потешаются враньем! Глупый, смешной народ. Хоша и то сказать: скушно, иное дело. Отчего не позабавиться?.. Али нет, милуши мои…
Иван Иваныч любил умную беседу вести, особенно — родной, русской речью, хотя порядком болтал по-английски и по-французски.
— А скажите, Иван Иваныч, — знаете, зачем мы к вам так рано заявились? — улыбаясь и прямо глядя в лицо Клопу своими сверлящими глазками, спросил Сапега.