Теперь я забыл о том, что все спят – я бежал по деревянному коридору, я был быстрее ветра, я бежал и не знал, зачем я бегу и куда, и что мне делать. Я бежал и остановился только тогда, когда врезался во что-то мягкое. Со всей силы врезался – а он только пискнул. Я схватил его за тощую шею и хотел уже дать хорошего пинка, чтоб знал, как пугать меня, потом вспомнил его шрам, идущий через весь череп, и почему-то расхотел его бить, а просто взял за шкирку и поволок к туалету.
Споткнувшись о порожек, он снова пискнул – я его что, совсем придушил? – и в темноте показался мне ещё тщедушнее обычного. Я вдруг подумал, что не хотел дотрагиваться до него и мне снова стало мерзко, будто случайно наступил на лягушку, и я отпустил ворот его пижамы. И включил свет.
Сначала я решил, что ещё не проснулся – с ним что-то было не так. Не было шрама на голове. Не было взгляда, который меня так достаёт – овечьего какого-то, кто-нибудь, может, скажет, добрый, но по-моему, так блаженный просто. Так вот, взгляда не было. Словно его за ночь, пока он шлялся где-то по тёмным коридорам, подменили.
А потом я сообразил, что это не он. Днём я этого дохлика почти и не разглядел – только фамилию запомнил, Фомкин. Теперь-то я понял, что они просто похожи – ну вот бывает, что люди, которые до поры до времени ничего друг о друге не знают, до ужаса похожи. Как будто бы родились близнецами и их в роддоме отдали в разные семьи.
Я отодвинулся от него. Что делать, было непонятно.
– Брата ищешь? – понимающе спросил он, подслеповато щурясь на туалетном свету.
Ищу, говорю я. Давай, говорю, Фома – поднимай всех, а я к реке. Вдруг там что-то.
И снова побежал. Я поскальзывался на ступеньках, ведущих от корпуса к реке, я вроде бы и не хотел бежать – а ноги отчего-то сами бежали. Ночной воздух был странным – окунал по макушку то в ледяной холод, то в душное тепло. Липы походили на непонятный, тёмный коридор, в конце которого блестела река.
Я и не думал, что тщедушный Фома так быстро всех соберёт – за спиной уже кто-то перекрикивался наверху, я оглядывался и видел, как в корпусе зажигаются огни. Один за другим.
Я подбегал к реке и бежал всё медленнее – я вдруг подумал, что если он сегодня умрёт, то я буду первым, кто его увидит. И я понял, что совсем не хочу видеть его мёртвым – пусть первым, кто это увидит, буду не я.
Но когда ты бежишь, ты уже не можешь остановиться – даже если кто-то сигает где-то сбоку через кусты, словно дикая кошка. Даже когда выбегаешь на берег и видишь его – ты все ещё бежишь внутри себя. Пока не наталкиваешься взглядом на его лицо: он запрокинул голову и смотрит сквозь закрытые глаза на звёздное небо.
И улыбается. Улыбается улыбкой блаженного.
Тогда ты стараешься отдышаться и зло плюешь ему в лицо.
– Сволочь.
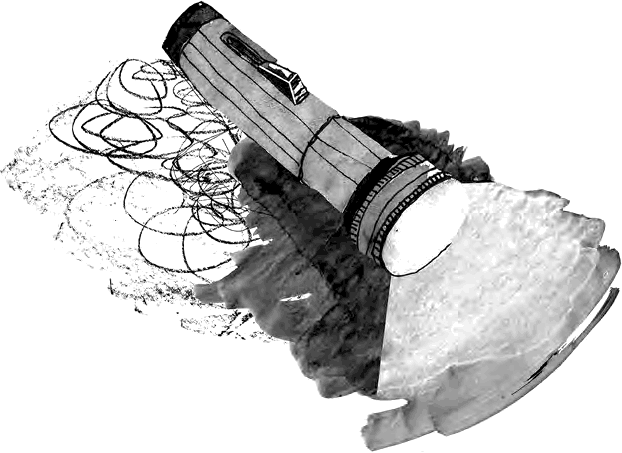
[Случайное отступление]
Город Глубь когда-то был совсем не таким.
Караваны рыбы ходили туда и сюда, сюда и туда.
Город Глубь был похож на расписную ёлочную игрушку – когда-то. Зимой на холмах лежал сугробами снег и чёрные птицы оставляли узоры дымно-синие, следами-лапами – поэтому зиму ждали. Самовары кипели на тёплых верандах, и пахло углём и пирогами, и можно было сидеть в доме над обрывом и смотреть, смотреть на реку, которая замёрзла и превратилась в крепкую ледяную дорогу. И думать, как однажды сможешь поехать вместе с рыбным-санным караваном куда-нибудь на край света, потому что река всегда зовёт куда-нибудь на край света, такое у реки искушение.
Зимой не нужны были паромщики, они снаряжали сани и возили по реке туда-сюда, сюда-туда. Налёдный зимний паром. По ледяным глыбам катились сани с замороженной рыбой и чтобы показать, какую рыбу привезли, купцы ставили её на лед на-попа и оказывалась она с них ростом. По ледяным глыбам мчались сани с людьми отовсюду, они взметали снежную пыль, они тормозили так резко, что на льду словно белым карандашом чертило глубокие вензеля, они высаживали людей, которые сначала просто заворачивали поесть горячего супа и пирогов, и выпить чаю с видом на замёрзшую реку, похожую на гигантскую дорогу, а потом оставались навсегда. Потому что город Глубь притягивал всякого – как притягивает странный летний омут – всякого, кому нечего и некого было оставлять там, откуда его принесла река. И тогда этот пришлый оседал, пускал корни, если умел, а если не умел, то делал вид, и забывал то, что осталось у него за спиной – всё смывала и уносила вдаль река.
Город Глубь называл себя когда-то маленьким Парижем. Речным Парижем с променадом и дачными ресторанами, с художниками, облепившими его холмы, с писателями на отдыхе, воспевающими тихие заводи. Новости приходили в Глубь почти одновременно со столицами и казались себе горожане гражданами большого мира, только кипел этот мир тихонечко где-то вдали, за горизонтом, откуда приходит река.
Город Глубь мог бы стать… мог бы быть…, но не стал и не был. Появились железные дороги, металлическими скобами скрепили горы и поля, города и деревни, обросли гроздьями полустанков. «В Глубь придёт прогресс!» – кричали местные газеты. «От столицы в Глубь – рукой теперь подать!» – говорили в дачных ресторанах и домах на речных обрывах. Потому что должна была дорога пройти по кромке и место для вокзала уже нашли – у почты, наверху, там, где овраг зарос густой рябиною. Нитка железная шла-шла и круто завернула, не дойдя до Глуби, совсем не дойдя, так, что на вокзал надо было долго ехать на перекладных. А потом – словно весь зимний холод ушёл в рельсы, чтобы крепче стали – чахли и слабли зимы. И перестала река превращаться в ледяную дорогу. И свернули рыбные караваны на других перекрестках, и закрылись дачные рестораны, и опустел променад, и забыли художники, как добираться до города Глубь. И тогда время, не зная, что ему ещё делать, застыло в городе Глубь тягучей каплей. И застыли живущие там во времени мошкой в янтаре. И забыли про Париж и большой дальний мир, про столицы и революции. Всё осталось в городе Глубь как в тот день, когда железная нитка пролегла стежками в стороне от него. Осталось точно таким же, как в тот день – только уже обветшавшим.
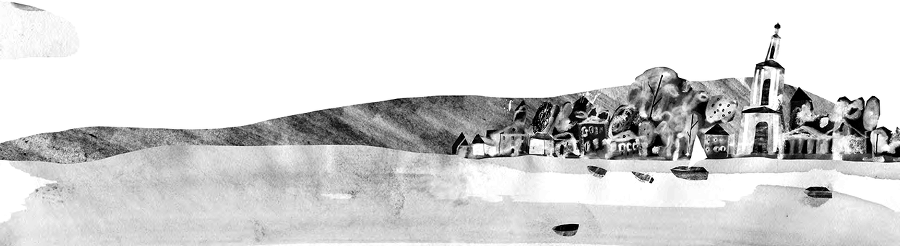
VIII. Я
Иногда кажется, что через неё просачивается время – через капельницу. Оно вытекает из прозрачной бутылки где-то наверху, течёт по прозрачной трубочке, вливаясь прямо в вену. Когда Исусик лежал под капельницей, то иногда думал: время втекает в него – медленно, по капле, наполняет до краёв, и он сам становится живым временем. И поэтому-то я такой худой, думал он ещё – время утекает потом через кожу, его не удержишь никак. Как ни старайся.
По утрам нужно ходить в санпункт.
Санпункт – белёсый деревянный барак-корпус на отшибе, в котором царит Кармен. Кармен идёт по коридору меж кабинок и в нём сразу пахнет льдом, а вдали позвякивает какими-то склянками. В самый первый раз он пришёл и принялся мыть руки – а она смотрела внимательно на то, как он намыливает ладони, как смывает мыльную пену с пальцев – и молчала. Потом, чтоб не вытирать руки, он просто стряхнул с них воду.
– Не стряхивай воду, – сказала она, – воду с пальцев не стряхивают.
Почему, спросил он и ждал какого-то объяснения, ну, простого, вроде «заусенцы появятся», «бородавки вырастут», но она сказала – «чертей наплодишь».
Так сказала, словно это было что-то обычное, вроде «закрой окно, простудишься». И тогда он представил, как тонкими каплями летят в раковину бесплотные черти, растекаются по белой эмали, расползаются невидимые и неощутимые всюду, по всему миру и дальше, куда-то к горизонту. Просто от мелких капель с кончиков пальцев…