Александр Иванович Герцен в «Былом и думах» вспоминал о шефе жандармов с большой долей объективности: «Может Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все, — я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица, — но и добра он не сделал, на это у него не доставало энергии, воли, сердца. Робость сказать слово в защиту гонимых стоит всякого преступления на службе такому холодному, беспощадному человеку, как Николай».
Бывший лицеист, преуспевающий сановник и официально скучный историк барон «Модинька» Корф, известный скептическими отзывами о Пушкине, писал: «…он (Бенкендорф), в сущности, был более отрицательно-добрым человеком, под именем которого совершилось, наряду со многим добром, и немало самоуправства и зла».
Поражает совпадение некоторых элементов в характеристиках Герцена и Корфа, занимавших в общественной жизни России диаметрально противоположные позиции. Герцен обращает внимание на обманчиво добрый взгляд, подчеркивает невнимательность, рассеянность, волокитство, и Корф отмечает те же качества у шефа жандармов, объясняя ими бесчисленные случаи нарушения законности. Словом, и Г ерцен, и Корф рисуют малосимпатичный, но внешне не такой уж зловещий образ. Да, Бенкендорф чем-то отличался от Малюты Скуратова, Ягужинского, Ушакова, Шешковского, Балашова и ряда других деятелей охранительного поприща вплоть до министра внутренних дел, шефа жандармов, распутинца и шпиона Протопопова с его бородатыми городовыми, «виккерсовскими» пулеметами на крышах и думским беспардонным враньем. Но почему же именно он, Бенкендорф, до сих пор обладает наибольшей «популярностью»?
На совести Александра Христофоровича — так или иначе — гибель поэта, проявил ли он только преступное бездействие или споспешествовал интриге. Между тем и косвенная причастность к убийству Пушкина в России вызывает совершенно особые чувства, ибо, устраняя его, правительство пыталось вырвать у народа язык. Те, кто был нем, могли повторять его строки. Не каждый и образованный человек назовет, кто жандармствовал в день казни Каракозова или Желябова, не каждый знает, кто несет по должности ответственность за якутский и ленский расстрелы. А эти события в истории страны не менее значительны и не менее ужасны. Вероятно, в Бенкендорфе содержалось нечто первозданное, абсолютно полицейское и вместе с тем вненациональное, абстрактное, отвлеченное, но зато глубоко соответствующее месту, которое он занимал. Вспомним его любительский — он в то время еще не был в жандармах — и вместе с тем на редкость профессиональный, то есть подробный и точный, донос на декабристов Александру I. Не столько зло и его размеры, а, скорее, социальный смысл и механизм деятельности в данном случае стоит рассмотреть. Они у Александра Христофоровича, несмотря на женолюбие и забывчивость, оказались принципиально новыми, оригинальными, с европейским — меттерниховским — привкусом. Именно Бенкендорф, а затем и его креатура Леонтий Васильевич Дубельт изменили на долгие годы постановку полицейского сыска в России.
Бенкендорф поскреб длинным бледным ногтем уголок рта и судорожно всхлипнул, осаживая отрыжкой опять подкатывающую желчью тошноту. Наконец дернул за сонетку. Владиславлев через довольно долгий промежуток всунул в прорезь малиновой портьеры прилизанную голову с пышными височками а lа император.
— Булгарин, ваше сиятельство. Булгарина привезли.
Не случайная и небезынтересная, — между прочим, фигура этот жандармский полковник В. А. Владиславлев. Несколько отрывочных сведений говорят о нем как о любопытном и тоже новом типе служащего III отделения. Имел незаурядный интерес к изящной словесности. По возвращении Надеждина из ссылки приятельствовал с ним и Краевским. Издавал с помощью и под покровительством шефа жандармов альманах с нежным названием «Утренняя заря». Издание Владиславлева относят к официальной традиции Готского альманаха (1842 год). Правда, сперва он печатал только гравюры, представляющие набор портретов владетельных особ — великой княгини Марии Александровны, графини Бенкендорф, баронессы Менгден…
Прибавлю одно пикантное сообщение о ловком адъютанте. «Чудную спекуляцию сделал Владиславлев «Утреннею зарею», — восторгается в своих записках К. А. Полевой, — пожертвовавши в детскую больницу 25 тыс., он заставил доброго графа Ал. Хр. рассылать и сбывать экземпляры, и продал их — 10000! Вычти расходы, хоть 25 тыс., пожертвование 25 тыс., и чистого барыша до 100 000 руб.; но если положить и половину, то мастерская штука!»
Возразить Полевому нечего — штука действительно мастерская. Отношение Пушкина к альманахам всегда было резко отрицательное — как к коммерческому, а не литературному предприятию.
От продажи «Истории Пугачева» Пушкин предполагал получить 40 тысяч рублей, но и эти скромные надежды не оправдались. В феврале 1835 года он заметил в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают». Подсчитано, что от продажи им было выручено не больше 20 тысяч рублей. В квартире на Мойке осталось 1775 экземпляров из 3000 тиража. Книжная торговля Владиславлева под покровительством Бенкендорфа шла не в пример бойчее.
— Хорошо, пусть поляк подождет. Пошли Львова расспросить Сагтынского о деле бывшего Пушкина. Государь интересовался намедни. Кто таков? Отчего бывший? Политический? Не родственник ли? Папку в архиве разыскать. Сего дня и доложить без промедления. Ступай… Леонтия Васильевича вызови эстафетой!
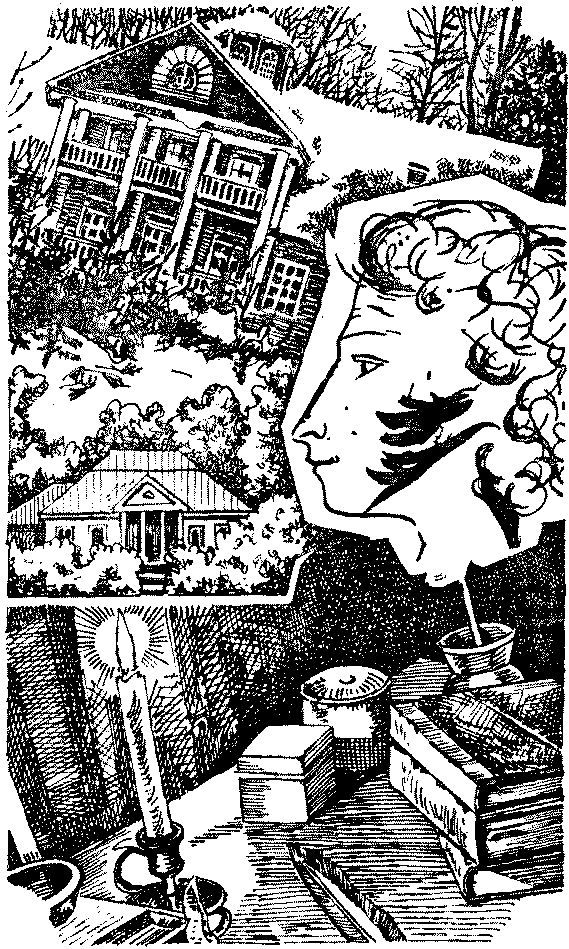
Сгоняя платком с зеленоватых стекол-эллипсов гадкие раздражающие ворсинки, Булгарин внимательно прислушивался. Нет, не зовут в кабинет, почитай, тридцать минут, как привезли. К аристократическим штукам он, матка боска, не причастен и причаститься его не заставят. О Пушкине, о сплетнях ни слова, ни полслова. Ни гу-гу. Однако обидно, что выдерживают, как на дрожжах. Хамство какое! Александр Николаевич Мордвинов повежливей, а фон Фок… Ах, фон Фок, милый, интеллигентный человек, упокой господи его душу. Проникал в работу досконально. Бывало, статейку в зубах притащишь — всю исчеркает. А нынешние, кроме Александра Николаевича, хабарники, развратники да грубияны. «Ах, подлецы, подлецы! — и Булгарин выругался про себя вслед промелькнувшему адъютанту. — Ну, погодите!» Он поднял руку, согнул крючком указательный палец, почесал влажную переносицу под веточкой, соединяющей эллипсы. «Вы из меня ничего не вытянете, и даже пустяковых сведений не дам. Дело-то мокрое». Приятель Голяшкин некогда любил назидательно повторять: «Опасайся, Фаддей, мокрых дел. На мокром следы остаются». Бормоча проклятия, Булгарин энергично зашагал вокруг стола. «Коли начнут жать, скажусь больным инфлюэнцею, ка свой роток накину платок». Эстафета от Бенкендорфа поступила внезапно, хотя года полтора перед тем шеф не выказывал особенного желания возобновить контакты с доверенным агентом и, что касается женского пола, случалось, через Танту да ее закадычного друга певца Ненчини — фактотумом. У него свеженьких юнцов хоть отбавляй, с образованием, лицейских в гору двигают, посетовал тогда Булгарин. Но не очень, правда, опечалился. Аристократы все до одного безмозглые, жизни не нюхали. Складно докладную по поводу нравственного состояния общества, кроме него, никто не в силах настрочить, ибо лучше прочих на Руси владеет запасом важных сведений именно он, Фаддей Венедиктович, издатель «Северной пчелы», которую за границей, да и дома воспринимают как официоз. «И, наконец, я прекрасный писатель, — вздохнул Булгарин. — Мой «Выжигин», мой «Самозванец» — это ли не исторические перлы?»
6
10 июня 1831 года А. X. Бенкендорф сообщал Ф. В. Булгарину за № 3045: «Между тем поручил я поместить сию вашу статью в иностранных заграничных газетах. Поелику все политические статьи, помещенные в «Северной пчеле», почитаются публикою исходящими от правительства, то некоторая осторожность…» — и т. д. и т. п. Бенкендорф имел в виду статью «Перечень письма из Варшавы», которую государь прочел с «особенным удовольствием».