Одним из первых помощников во всем был муж Эллы Николай Дрелинг, наш друг с детства и гимназических лет. Он арестован за месяц до меня, расстрелян накануне войны. О нем позже.
Конечно, я нуждалась в верных друзьях, которых нисколько не страшило мое шаткое положение. И они были. Эрнст Паклар, способнейший аспирант, был исключен из аспирантуры в одном со мной списке. Ученик известного эстонского историка и крупного революционера X. Пегельмана, одного из руководителей Эстляндской Трудовой Коммуны. С Пегельманом Эрнста связывало эстонское подполье и наука история. Широкий в плечах, костистый, высокий, Паклар отличался лиричностью, романтичностью и мечтательностью. Любил и знал поэзию. Как многие эстонцы был пропитан музыкой. Музыкальность сочилась в его крови и выливалась в переливах и трелях свиста. Он свистел буквально как соловей. Никогда больше такого свиста не слыхивала. Эрнст высвистывал множество романсов, арии с музыкальным сопровождением, народные песни, особенно эстонские. Мы из «Астории» были выселены с ним в один дом[5]. Он и его жена Сальме жили над нами. Бывало, зайдет, присядет к роялю и, едва подыгрывая себе по слуху, зальется соловьиным свистом. Он не признавал себя исключенным, расхаживал размашистым шагом по университетским коридорам, неистово спорил, доказывая нелепость происходящих арестов, открыто протестовал всюду, где мог, вступал в споры. Когда арестовали Пегельмана, он носил ему передачи. Когда арестовали меня, он писал протесты и ручался за мою политическую чистоту, писал мне открытки в тюрьму. Следователь Райхман показывал мне открытки и откровенно смеялся над тем, что в наше время еще существуют такие простаки.
— Да ведь у меня все улики против него налицо, не сомневайтесь, что я его посажу! — говорил Райхман. И посадил.
Думаю, Эрнст прозрел уже в тюрьме и окончательно — во всеобъемлющем ГУЛАГе. Следователем его оказался тот же Райхман, затем он прошел лагеря, ссылку… Знаю, что вышел на волю, уехал работать в Таллиннский университет и там, стоя на кафедре, умер во время лекции от инфаркта в 1957 г. Так рассказывали. После отъезда из Ленинграда я его не видела, до ареста получала письма.
Паня Еремеевский быстро трезвел и мрачнел после приезда из Островской МТС, которая теперь ему казалась островом или оазисом, на котором он не. знал, что творится на материке.
— Не понимаю, что происходит? — говорил он. — Я простой парень из Сыктывкара. На третий съезд комсомола я был послан единственным делегатом из тех захудалых мест. На съезде познакомился с петроградскими комсомольцами. Какие это были замечательные ребята, мне казалось, что они семи пядей во лбу! Сдружился с ними, вытянули они меня в свой круг, в свою работу. Вскоре перевелся в Петроград. Отсюда комсомол и послал меня учиться в университет на факультет общественных наук, полный огня, задора, кипения и страстей. Я шагал в гору рука об руку с комсомольцами. Теперь ведущее звено комсомола либо арестовано, либо под подозрением. Они стали контрреволюционерами или у нас происходит контрреволюция? Чем я лучше их? Спасла меня мобилизация в МТС или случилось нечто сверхвозможное? Когда все это случилось?
Но что делать, куда бежать? Да бежать мне и мерзко. А кругом идет не косовица трав, а косовица голов! Я же должен идти за назначением на кафедру истории партии. Назначен в Военно-медицинскую академию. Сам я, как выжженная трава, на душе полынная отрава, а недавно мнил себя в расцвете сил. Я улыбался, когда сетовали на сложности жизни, а сам зашел в тупик. Именно сейчас наступил решающий час, я же не готов к нему. Не знаю как быть, как поступать?
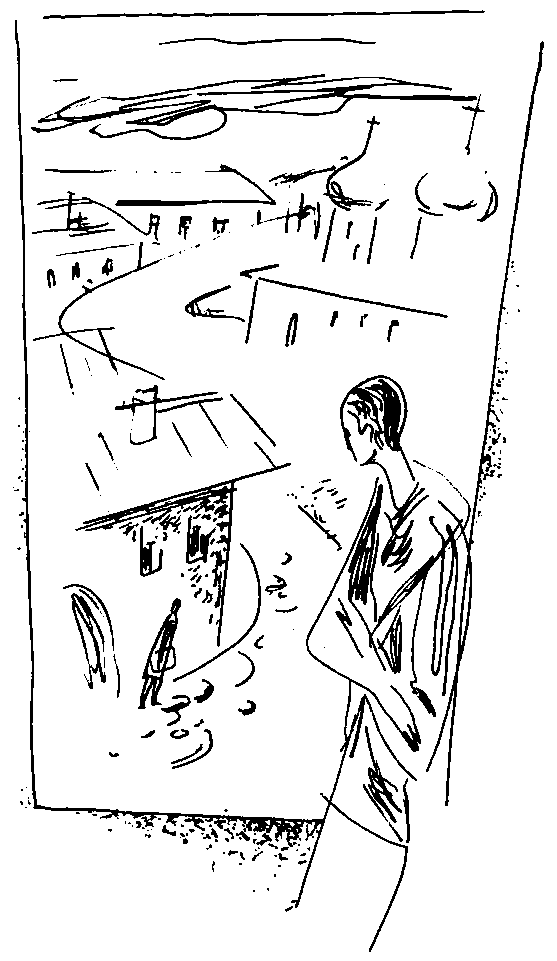
Жизнь решила за него. Он заведовал кафедрой истории партии в Академии, затем в институте имени Герцена, в чем-то себя переломил, в чем-то убедил, как-то добился честности с самим собой, иначе он не мог бы жить. Добился ли? Не сомневаюсь, что он вновь нашел себя и свое место только когда началась война. Еремеевский сразу же пошел добровольцем на фронт и погиб на Дороге жизни незадолго до снятия блокады Ленинграда. В воспоминаниях бывших студентов ФОНа[6], изданных Ленинградским университетом, одна из участниц сборника Мария Ноль пишет: «Ответственным организатором партколлектива был Л. Сыркин. В стипендиальной комиссии работал комсомолец П. Еремеевский, пользовавшийся большой любовью студентов за общительность, простоту и чуткость». Таким он и был, да еще много хорошего можно бы сказать о Еремеевском.
Как же получалось, что человек, потрясенный творимым злом, беззаконием и насилием, направленным против людей, которых он глубоко уважал и которым полностью доверял, не только не протестовал публично, но с амвона кафедры, безусловно, вынужден был оправдывать всю политику партии и правительства? Почему Еремеевский, как и миллионы других, не могли преодолеть тот психологический барьер, который превратил бы их в протестантов и искателей правды? Вместе с тем живое сомнение уже загорелось в нем и в других, но не превращало их ни в инакомыслящих, ни в отступников, ни в еретиков. Сомнения невозможно было убить, но они не высказывались, не предавались гласности, душились. Лицемерие находило в каждом благодатную почву, рождалась, росла и зрела политическая безнравственность, которая подтачивала и основные нравственные начала человека в целом. Так было не с худшими, а с лучшими. Вот почему я уверена, что для Пани Еремеевского фронт был не только долгом и обязанностью, но и выходом, самоочищением. Однако очень немногие шли на самозаклание. Большая часть приспосабливалась.
Ссылка в Новгород
Новгородский педагогический институт, куда меня направили на работу, находился в трех километрах от города, в Антоньевской слободе, бывшем монастыре, с большой усадьбой на берегу Волхова. Старинные побеленные монастырские постройки с трехэтажным корпусом для учебных занятий и библиотекой. Некогда в монастыре имелась своя прекрасная библиотека, перевезенная в новгородский кремль.
Аудитории второго и третьего этажей светлые, с высокими окнами, нижнего этажа — сводчатые, типично монастырские, с более слабым дневным освещением. Здесь, наверно, размещалась монастырская братия, а теперь — квартиры преподавателей. Студенты и преподаватели (кроме нескольких. приезжающих из Ленинграда) жили в Антоньевской слободе при институте, который имел большое подсобное хозяйство и великолепный сад. В стенах квартир сохранились монашеские лежанки. Столовая помещалась в бывшей трапезной. Сад, парк и лес крутыми склонами спускались к реке. Мы приехали осенью, когда новогородские лиственные леса особо хороши и многоцветны. Для детей нельзя было придумать ничего лучшего, а старинная патриархальная обстановка вселяла успокоительную сосредоточенность. Я получила квартиру, возможность заниматься и растить детей. Соседом по квартире оказался мой сокурсник по студенческим годам и аспирантуре H. С. Масленников. Конечно, мы обрадовались друг другу. Детская комната и комната Николая Сергеевича соединялись раз и навсегда забитой дверью, но ребята умудрились расковырять скважину от ключа и забрасывали своего соседа по утрам горохом, частями от «конструктора», камушками, будили его; он беззлобно и великодушно вступал в игру.
Директор института Кимен, человек независимый и немногословный, направлен был в маленький институт, якобы с большой работы, за какие-то грехи. Не знаю, так ли это, но руководил он институтом умно, спокойно, умело, сочетая дела педагога и хозяйственника.
Завуч Буров, молодой волжанин, вел педагогику и был обуреваем идеей, чтобы занятия в институте велись в соответствии с принципами, которые он отстаивал в своем курсе. Поэтому он постоянно бывал на лекциях и на семинарах, подолгу беседовал с преподавателями, но не приказывал, а убеждал. Хотя выполнять его требования порой казалось и нецелесообразным, зато его искренность и воодушевление не подлежали сомнению. С такими людьми приятно иметь дело. Да и весь коллектив был молодой, не избалованный, работящий. Диамат, правда, читал человек еще мало подготовленный. Фамилия Дитёв прямо соответствовала по-детски неискушенному складу его ума. Отвлеченное мышление никак ему не давалось, и он беспомощно сводил философские проблемы не к практике, а к житейским вопросам, что звучало и неуклюже, и вульгарно, и даже смешно. Читал он много, ночами, но бессистемно — Гегеля, Канта, Бергсона, классиков марксизма. Иногда поздно вечером стучал в комнату и жаловался, что башка трещит до слез, и материал к лекции не одолел. Перед лекциями мучился, волновался. Студентам не позавидуешь, а человек не глупый, не лжец, не упрощенец.