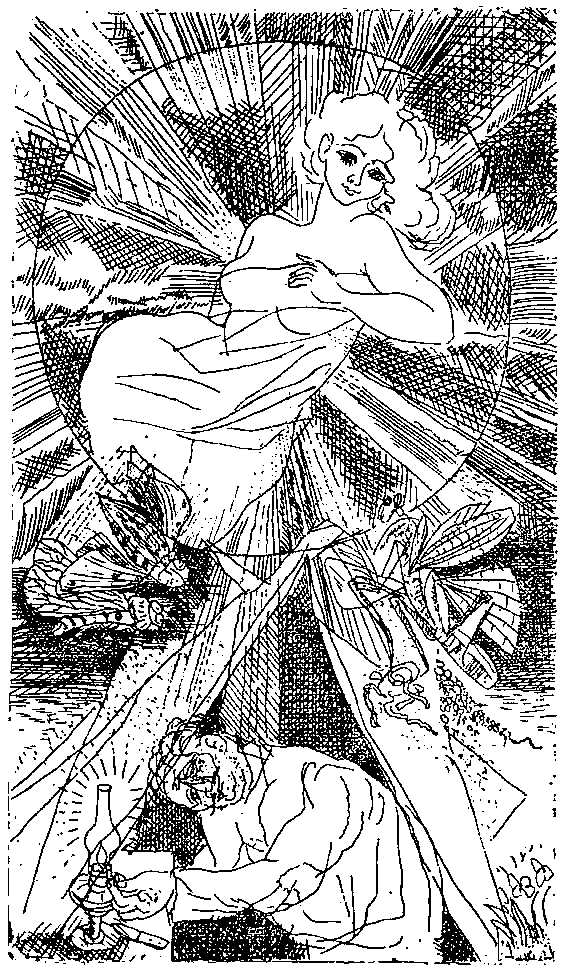
Бесконечно тянулись урукийские ночи. Он гасил лампу лишь тогда, когда дальние холмы синели, кукарекали первые петухи и начинали лаять осмелевшие с приближением рассвета собаки, — тогда он дул в раскаленное стекло лампы, как дуют в ствол пистолета после дуэли, чтобы скрыть за этой показной беспечностью остатки перенесенного страха. Для него умирала лишь еще одна ночь одиночества, до отказа заполненная звуками военных барабанов и труб, призраками мгновенно вскакивающих по свистку голых по пояс парней и сидящих по вечерам перед казармой девчонок с крепкими, загорелыми ногами, по щиколотки утопающими в шелухе от семечек. Палатка пропитывалась вонью горелого фитиля и керосиновым угаром, ее спертый воздух томился и потел, как женщина, переспавшая с солдатом — даже не с одним, а с целой казармой… испарина этой несуществующей женщины окутывала его, он задыхался в этой испарине! Все тело ныло, любое движение причиняло невыносимую, унизительную боль, и он в одном белье, как привидение, пускался бродить по синеющему двору, обнимал покрытые росой деревья, целовал их, пересохшими губами исступленно сосал шероховатую кору, чтобы ее влажной прохладой хоть немного притушить полыхавший в теле пожар неудовлетворенного желания. Единственной, кто могла спасти его, была Анна: он не зря выбрал ее, едва лишь осмотрелся и хоть немного разобрался в здешней обстановке. Покорный, безобидный облик Анны, особенно же сплетни и пересуды вокруг нее, сразу навели его на мысль, что она — именно то, чего он искал. Как сообразительный арестант, он собирался устроить себе более или менее сносную жизнь и за решеткой, чтобы не мучиться напрасными мыслями о том, что он оставил (и, вероятно, навсегда) за стенами тюрьмы. Здесь же, по эту сторону стен, Анна была единственной женщиной, не только способной, но и обязанной понять его. Он нуждался в ней, как монастырь в монахине — но не для молитв, а чтоб выметать мусор. Во внешности Анны и в самом деле было что-то монашеское — но не это же, в конце концов, притягивало к ней борчалинца, которого неутоленная страсть гнала, словно голодного волка, за десятки километров, в деревню, для него далеко не безопасную! И все-таки желание майора покорить эту женщину было вызвано не столько ее привлекательностью, сколько его собственной глупостью и слепотой, ибо, как оказалось впоследствии, Анна была вовсе не так уж легко доступна, как он сперва вообразил, да и избавиться от соперника оказалось тоже делом вовсе не простым, хоть он и не сомневался в том, что рано или поздно это ему удастся (больше всего в этом смысле он надеялся на свой мундир!). Однако время шло, и ничего хорошего не происходило. Недоступность женщины раздражала его и сама по себе — но еще больше его бесил борчалинец, которого всегда ждало готовеньким то, в чем он, майор, нуждался гораздо больше, то, что ему доставляло столько мук и волнений. Впрочем, если б не борчалинец, майор, вероятно, и вовсе не стал бы думать об Анне как о женщине: от нее слишком пахло ладаном и церковным сумраком. Но со временем она превратилась для него в тайну, не очень глубокую, не очень большую, а все же, как любая тайна, заманчивую, требующую разгадки; и не думать о ней он уж не мог. Он хотел от нее немногого, ни мужем, ни постоянным любовником ее становиться не собирался; ему нужна была просто женщина, хорошо знающая свое дело, — и все же он так увлекся своим замыслом, так облегчил сам себе в мыслях его исполнение, что и сам не заметил, как замысел этот перерос в невыносимое желание, от которого он уже не мог избавиться, не завладев этой тайной, не схватив ее, как расхрабрившаяся от голода мышь кусочек сала в мышеловке. Он чувствовал, что впутывается в рискованное дело, но желание овладело им уже целиком, и никакого другого выхода не было. Однако он не унывал, считал даже, что все идет хорошо, что он умело действует во исполнение своего плана; в действительности же он просто хватался за сына вдовы, как утопающий за соломинку! Он был подобен верующему фанатику, который благодаря самовнушению, самоубеждению на краткий миг как бы достигает внутреннего слияния с божеством — и хотя, ослепленный счастьем, он и в этот миг неспособен узреть незримое, достичь недостижимого, одного этого чувства, надолго остающегося у него и после протрезвления, возвращения на землю, достаточно, чтобы все его будничное существование стало для него более сносным, чтоб и начинать новую жизнь на могиле чьего-то чужого ребенка, и лежать на чьем-то сундуке в провонявшей холостяцким духом палатке показалось ему делом самым естественным. Открыв для себя Георгу, он еще больше оживился и разохотился — как старый солдат, он хорошо знал, что значит во время боя неожиданное подкрепление, пусть даже самое малое. «Ему тоже покажем, где раки зимуют…» — говорил он Георге, потирая руки, как человек, уверенный в себе, всю жизнь игравший в прятки со смертью, испытавший всевозможные превратности судьбы. Такая привычка была у их длинноусого ефрейтора, обо всем и обо всех на свете высказывавшегося одинаково: «Им тоже покажем, где раки зимуют», — этому длинноусому ефрейтору он невольно и подражал, когда, оставшись вдвоем с Георгой, учил его ездить верхом, держать ружье, взводить курок… подражал потому, вероятно, что относился к Георге как к настоящему солдату и готовил его к войне, к предстоящему бою не менее тщательно и строго, чем тот же длинноусый ефрейтор, который, проходя с прищуренными глазами перед строем новобранцев, уже заранее знал, какой из кого выйдет толк. Тут у него был всего один новобранец, к тому же малолетний, но и это было лучше, чем ничего, а если послушание и усердие хоть что-нибудь значат, то и Георга обещал стать солдатом совсем неплохим. Во всяком случае, никто не мог лучше его проникнуть во вражеский лагерь (то есть в собственный дом) и внести раздор в ряды противника (то есть между матерью и борчалинцем)… В конце концов, все ведь именно так и произошло, и надежды майора Георга оправдал полностью. Однако шум, поднятый борчалинцем в доме вдовы, майора, мягко говоря, несколько напугал — он не думал, что тот на такое осмелится. Заступиться за пострадавших ему, конечно же, и в голову не пришло, — во-первых, он просто струсил, во-вторых, чем сильней досталось бы матери с сыном сейчас, тем легче стало бы ему сблизиться с ними потом! Но и совсем бездействовать не годилось тоже, что-то предпринять следовало и ему. Поэтому-то он и не сомкнул глаз всю ночь и не вставал с сундука — сидел, прислушивался и думал…
— Одолел нас басурман! — сказал ему на следующий вечер хозяин лавки.
Лавочника звали Гарегином, он был армянином-беженцем из Турции и сейчас имел лишь одну заботу: как перевезти и похоронить в У руки прах своих родителей. «Дом человека — там, где его родители, пусть даже мертвые…» — часто говорил Гарегин заходившим в лавку крестьянам; и те охотно соглашались, ибо это была сущая правда.
— Басурман? — с деланным удивлением переспросил майор.
— Ну да, басурман! И вдову отдубасил вчера ночью, и Георгу заодно. Слыханное ли дело, и в собственном доме нам покою не дают… — огорченно развел руками Гарегин.
Пол лавки был усеян мелким битым стеклом, скрипевшим под ногами, как сухой снег.
— А почему? Причина-то какая? — заинтересовался майор с таким видом, словно впервые об этом слышал и не просидел всю ночь на своем сундуке, с ужасом прислушиваясь к реву борчалинца и воплям вдовы.
Всю подоплеку вчерашнего побоища он знал едва ли не лучше, чем Гарегин, но только у Гарегина он мог выяснить то, ради чего вышел из палатки вообще. В лавке Гарегина скоплялись все новости округи; никто не уходил оттуда, не пожаловавшись на свои или чужие несчастья, словно он находился не в лавке, а в церкви и беседовал не с опершимся грудью о прилавок, вечно ухмыляющимся торговцем, а с принимающим исповедь священником. Майору хотелось знать мнение деревни: его интересовало, что она думает об этом деле и насколько он может рассчитывать на ее поддержку, если дело примет серьезный оборот.