Я выиграла. Они онемели. Штатский наградил меня таким взглядом, который, если и не спалил, то все же ожег меня.
Поезд тронулся.
— Приезжайте в Москву, я покажу вам Красные Ворота, — успела я еще крикнуть им, не без задора.
Я долго махала платком двум застывшим фигурам, которые делались все меньше и меньше и наконец исчезли.
Письмо одиннадцатое
Быль Московская. Моя Настя
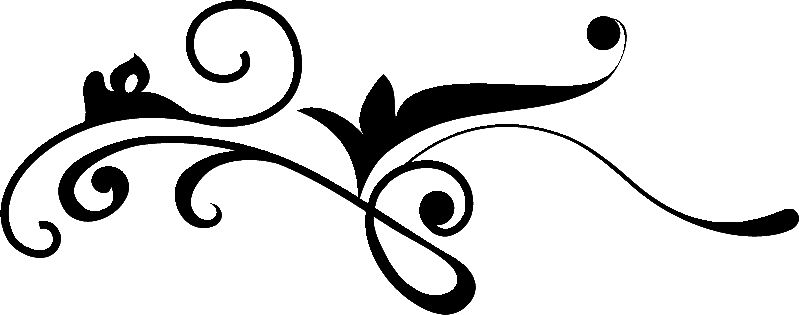
Белокаменную матушку вспоминаю не без любви, не без трепета. Любила я иногда приезжать с Урала в Москву, что называется, инкогнито, то есть ни друзья, ни приятели, никто не знал, не предполагал, что я уже с неделю в Москве. И останавливалась я всегда в старомодной, провинциально-купеческой гостинице «Лоскутной», на Тверской. Любила я ее кривые коридорчики, неожиданные повороты со ступеньками, это значит пристройка. Пристраивалась она частями, лоскуточками, не сразу, без модного архитектора, сшивалась и прилаживалась, лишь бы крепко было, оттого и называлась «Лоскутною». Чистота идеальная и дух старорусский, приветливый, укладистый. Друзья мои высмеивали меня, а для меня краше ее в Москве не было. И все-то у тебя близко, под боком. И Охотный ряд, чего там только не было: и стерлядь копченая, и балычок, и икорка зернистая, и грибки маринованные, соленые. И Чуев тут же, ох, и хлеб же у него! И Бландовы со своими сливками, сырами! Ну да что тут говорить, и театры тут же, и Художественный в Камергерском переулке, недалеко и Кузнецкий и Мюр и Мерилиз, да все, все. Да, лучше этого места нет! Любила я бродить по Москве, любила я ее, голубушку, и знала ее лучше, чем иной москвич.
Проживешь так несколько дней, отведешь душу, и позвонишь приятелям. Была у меня одна семья профессора X., очень они меня любили, и слово взяли: не сметь нигде останавливаться, только у них, и всегда была для меня комната готова, и называлась «комната Заморской Царевны», так прозвала меня Глаша, их домоправительница, служившая у них много лет с собачьей преданностью. Вся молодежь на ее глазах выросла, кто замуж вышел, кто университет окончил. Всем Глаша говорила «ты», и старому профессору в том числе, и ей все говорили «ты», но по имени отчеству величали. Не знаю, кто больше меня любил, вся семья или Глаша. Помню, приехала я раз страшно простуженной, так Глаша проявила столько энергии, и доктора сама по телефону вызвала, и калачом спать улеглась у кровати на полу, как я ее ни уговаривала идти к себе спать, ни за что. Приятельство у нас с нею было давнишнее, и друг другу мы говорили «ты».
— Слушай, Глафира Петровна, если я даже помру, велика беда!
— Да ты что, Татьяна Владимировна. Чур, тебя, чур, тебя!
И убежала из комнаты. Через минуту она явилась с полным ртом воды и спрыснула меня с уголька.
— Хоть и был доктор, да так-то понадежнее, завтра здорова будешь, это у тебя с дурного глазу.
Удовольствие было очень маленькое, но ни вымыть лицо, ни вытереть, мне не позволила, «заговор действовать не будет». Пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы выслать ее из комнаты, и больше я с нею на такую тему не шутила.
Итак, стоило мне только позвонить моим друзьям, не проходило и полчаса, явятся, сложат вещи и извольте ехать к ним. Бывало, их случайно никого дома нет, тогда являлась Глаша и проделывала все то же, что и ее господа, только с той разницей, что складывала она вещи сердито, ворчала приблизительно одинаково каждый раз:
— Ишь, истварилась как, — (от слова «тварь»), — Заморская Царевна, нет на тебя управы.
Вы не думайте, что «Заморская Царевна» в обиходе Глаши была дарована за какие-либо прелести или достоинства. Совсем нет. Горничным она говорила: «Ишь ты, фря!». Ну а господам так не полагалось. Выходило, что «Заморская Царевна» была маркой выше, но смысл был один. В таких случаях я просто начинала целовать ее. Ну уж тут слез не оберешься, признание в любви. И опять друзья-приятели. Таких приятельств и любви этой теплой, из сердца текущей, у меня в жизни много было. И приятельства были самые разнообразные.
Разрешите мне рассказать Вам еще о дворнике, нет, вернее, о стороже, древнейшем старике Потапыче, тоже приятеле. Картинный был старик. И опять же было это в Москве, моей зазнобушке. Любила я Воробьевы горы, ну и вид же с них на Москву. И днем и ночью красота зачарованная. Что еще влекло туда, так это старина некоторых построек. Был тут один дом, и казался он гравюрой екатерининских времен. Утопал в зелени, с заколоченными наглухо окнами, обнесенный высоким забором. Без всяких признаков жизни. И каждый раз манил меня он тайною. Сколько годков тебе? Кто жил тут? Кого и что видел ты?
И вот однажды, в один из моих приездов, на лавочке у отворенной калитки этого дома увидела я маститого старика с львиной гривой из кольца в кольцо седых волос, и тоже гравюра, стиля Маковского. Накинь на него кафтан боярский — ну чем не боярин Морозов! Подсела я к нему на скамеечку.
— Здравствуй, дедушка!
Повернулся ко мне, но ничего не сказал. Ох, и морщинистый, ох, и древний же и, видимо, совсем глухой. Все же мы разговорились, на левое ухо он чуть-чуть лучше слышал.
— Как звать тебя?
— Потапыч.
— Это по батюшке, а имя твое?
— Ну сказано тебе, Потапыч.
Он, как чеховский Фирс в «Вишневом саду», был забыт господами наследниками в этом заброшенном доме. Вот она, трагедия старости. Одинокий, никому не нужный. А главное, старость обессилила, сковала. Жаль мне стало старика. Скинула я пальто и говорю ему:
— Вот тебе залог — мое пальто, сиди и жди меня, я самое позднее через полчаса вернусь.
Недоверчиво посмотрел на меня, но дал слово, что подождет. На мое счастье, близко оказалась лавчонка, я купила чаю, сахару, баранок, сайку, халвы, меду, махорочки и бумаги на козью ножку — все-все, что нашла подходящего.
— Ну, Потапыч, пошли чай пить.
— Да ты что? У меня и чая-то нет.
— Ан есть, смотри… И чай, и баранки, и сахар, и… Крупные слезы закапали у старика. Ну уж тут и я не выдержала, не рева была, сдавил мне клубок горло, давай я старика по голове гладить, к себе прижала, приласкала, и сама не рада, ревели мы оба.
— Ну, дед, довольно, говорю тебе, пошли чай пить. Маленькая клетушка, в которой он жил, была на удивление чиста и опрятна. Свободная стена напомнила мне мое путешествие по Алтаю, где в каждой избе стены были увешаны, как и у Потапыча, нелепыми олеографиями вперемешку с царскими портретами и образками святых передвижников земли Русской. В центральном месте у Потапыча была приклеена, прямо на стене, большая олеография «Полкан Богатырь», по пояс оголенный, с пышным женским бюстом, со страшными глазищами и зверским выражением лица. Все это, очевидно, отмечало богатырство и удаль. Все эти картины и портреты были так же стары, как и дед, а некоторые совсем выцвели. У Наполеона глаза были выколоты: «Чтобы не глядел, собака», — пояснил Потапыч. Господи, неужели этот старик Наполеона видел, пожар Москвы… И он, и дом все больше и больше казались мне ценной старинной книгой жизни, и меня волновало, что я притрагиваюсь к ней. Пока дед грел почерневший чайник, я вышла посмотреть двор, сад и тянул меня к себе красавец-дом. Я ничего в этот раз не расспрашивала Потапыча ни о доме, ни о его владельцах. Он показал мне щель у калитки и научил, как тянуть проволоку, чтобы звонок звонил в его избушке. На другой же день я привезла ему новый чайник, белья, холстинки для портянок, и больше всего угодила большой чайной чашкой, на которой было написано «пей другую». Потапыч называл меня ангелом, обещал мне показать дом.
— Никакого интереса, ангел мой, нет в нем, уж я запамятовал, сколько лет в нем не живут. После как мертвяк начал ходить, совсем его покинули.
С Потапычем было очень трудно говорить, он был очень глухой и путал события, воспоминания его шли скачками, то он говорил, что жил с мамкой, и много другой челяди было, и как француз пришел, и как господа бежали, и как только он и мамка и еще кто-то остались дом сторожить, как надворные постройки сгорели, а дом уцелел.