Мунк охотно писал обнаженных женщин. Обычно у них прекрасные, пышные формы, но уродливые грубые лица. Они пугают. Много раз у него фигурирует женщина около постели. На некоторых картинах у нее красивое тело. Она похожа на поток света, текущий к печальной и грязной стене. На большинстве картин она молода, но отвратительна. Общее для всех картин — ее поза. Она встает с постели с опущенной головой. Руки висят. Волосы скрывают лицо. Такие детали оставались у него в памяти.
Вторая картина на любовную тему, которую он особенно часто писал, называется «Смерть Марата». Марат лежит мертвый, окровавленный на кровати. Женщина стоит, обратив лицо к нам, кинжал скрыт.
Публичный дом был для Мунка вместилищем ужасов и кошмаров, крови и убийств. Он написал много картин о домах терпимости. Все они исполнены страха.
В последние годы жизни он писал и нагих мужчин, чего раньше не делал.
Ему нравилось писать себя нагим. На одном из таких автопортретов, созданных в молодости, он стоит в темной комнате. Тело его объято пламенем. Лицо искажено. Он в аду.
На очень многих картинах Мунка маячит смерть. То, что двигало Мунком, когда он писал мужчину и женщину, заставляло его писать и смерть. Его страх смерти был отражением его страха перед женщиной. Он страдал от двойственности своей психики, от борьбы между тоской и страхом, который он испытал впервые перед отцом. Всю жизнь Эдвард Мунк тосковал и стремился к тому, чего боялся.
Как большинство целомудренных людей, он боялся смерти.
— Я должен быть очень осторожен. Я просто вынужден ходить в толстых ботинках. Быть хорошо одетым. Я не могу заниматься спортом, промочу ноги — начнется бронхит. Вы не представляете себе, как я мучился с бронхитом. Я не могу спать с открытым окном. День и ночь я должен остерегаться бронхита.
В спальне он предпочитал температуру в 22 градуса. Термометр висел на шнуре над изголовьем.
— Это ужасно. Как только термометр падает ниже двадцати градусов, мне приходится вставать и топить. Иначе начнется бронхит.
Он ложился отдохнуть, как только чувствовал усталость, но считал опасным лежать долго. Спать хорошо, но опасно лежать и дремать. Ему нельзя было сказать, что он болен, плохо выглядит. Тогда он начинал беспокойно ходить взад и вперед или ложился. Нельзя было и говорить, что ты встретил кого-то, кто хорошо выглядит. Он это воспринимал как намек на свой счет. Узнав о смерти Эрика Вереншёлля, он сказал:
— Подумать только, и он умер. Все мне говорили: ты видел Вереншёлля? Он хорошо выглядит. Просто удивительно, как он хорошо выглядят. — Да, да, так мне говорили. Я слышал, что он просто заснул. Да, да. Он состарился, устал, перестал работать.
Мунк не мог видеть больных и стариков. «Вы знаете, этот старый больной человек хочет прийти повидаться со мной. Не можете ли вы позвонить ему и сказать, что я сам так стар, что не могу никого принимать».
Мунку хотелось знать, как люди умирают. Когда умер мой брат, он расспрашивал меня:
— Были ли у него боли? Говорил ли он что-нибудь? Знал ли сам, что умирает? Боялся ли он? Был ли он просветленным? Не казалось ли, что он что-то видит? Или все было мрачно? Не мерз ли он? Не было ли у него болей? Как вы думаете, может человек умереть от боли? Делали ли ему уколы? Сколько? Верил ли он во что-нибудь? Как вы думаете, помогает ли вера?
Совершенно очевидно, что Мунк не был в состоянии верить во что-либо. Он не хотел сгнить, превратиться в газ и костяную крошку. Он надеялся, что смерть — это переход к новой форме существования. Ему очень хотелось в это верить, но он видел слишком много нужды, чтобы верить в бога. Он считал, что во всем должен быть какой-то смысл. Но только не был в состоянии его понять.
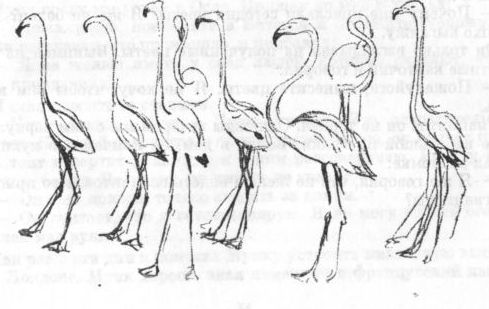
— Интересно, что думает собака о своем хозяине. Понимает ли она что-либо. Считает ли, что мы — люди — всемогущи и всезнающи? Что мы создали все сущее? Даже если никакого бога нет, мы ничего не потеряем, живя так, как будто он есть. Тот, кто сеет доброту, пожинает доброту. В это я верю. Нет, я в этом не уверен. Не всегда. Пасторы часто фальшивы. Это можно заметить, когда они отправляют богослужение. Библейские слова звучат, как заклинание. Аминь, аминь. Сезам, Сезам, откройся. В большинстве своем пасторы худые и серые. Толстые, жирные священники верят, наверно, в милость господню. Они думают: бог простит мне. Самое главное — верить в него. А может быть, это действительно самое главное. Почем я знаю?
— Смерть — черным-черна. Краски — это свет. Быть художником — значит работать со световыми лучами. Может быть, смерть — это когда тебе выклюют глаза. И ты ничего не сможешь видеть. А может быть, это как будто тебя бросили в погреб. И все ушли. Хлопнули дверью и ушли. И ничего не видно. Чувствуешь только промозглый холод покойника. Света нет.
Холод покойника. Мунк писал этот холод. На портрете матери, написанном маслом, ребенок отвернулся от покойницы. Она лежит бледная и худая. Он от нее уходит, одной рукой зажимая нос.
В 1919 году он написал автопортрет, когда был еще болен. Он назывался «Больной испанкой». Он старый, усталый, сидит в кресле, накрытый пледом. Рот открыт. Он задыхается.
— Вы чувствуете удушающий запах?
— Что вы хотите сказать?
— Вы чувствуете запах?
— Запах?
— Да, неужели вы не видите, что я вот-вот начну гнить.
Эдвард Мунк не любил цветов, терпел их только ко дню рождения и на рождество.
— Почему мне прислали сегодня цветы? Я же не болен? Или я плохо выгляжу.
Он только взглядывал на полученные цветы. Вынимал из них визитные карточки и говорил:
— Пожалуйста, вынесите цветы. Я не хочу, чтобы они вяли здесь.
Гиацинтов он не терпел. Однажды вечером мы с ним вернулись после небольшой прогулки. Войдя в дом, он помчался в кухню и сказал экономке:
— Я же говорил, что не желаю видеть гиацинтов. Кто прислал мне гиацинты?
ОДИНОКИЙ ЧУДАК
Если Мунк хотел говорить, он предпочитал быть вдвоем с собеседником. Если он попадал в компанию, он был удивительно молчалив и любезен. Он поднимал вещи, уроненные другими и даже молодыми. Последним входил в дверь. Если у него были гости он не садился, прежде чем они не усядутся. Однажды у него в гостях было четыре человека и стульев не хватило. Мунк вышел в кухню, принес оттуда пустой ящик и бутылку шампанского. Сев на ящик, сказал:
— Могу я предложить господам бокал шампанского?
Если я делал что-либо ему не по нраву, он не скупился на брань. Но если кто-то входил, сразу становился любезным, что бы я ни сделал. Даже не садился, не предложив сначала сесть мне.
Он очень близко принимал все к сердцу и годами не забывал обид. Особенно болезненно относился к малейшему намеку на то, что он выдумывает небылицы или что у него не все дома.
Однажды вечером Мунк без предупреждения приехал в свою усадьбу в Витстене. По дороге к дому он увидел, что кто-то проходит по усадьбе.
— Кто прошел сейчас по усадьбе? — спросил он сторожа.
— Никто не проходил.
— Я видел двух людей в черном. Они проходили по усадьбе, а вышли из вашего дома.
— Нет. У меня никого не было и никто не проходил по усадьбе.
Мунк сразу же уехал в Осло. Пришел ко мне и сказал:
— Пожалуйста, поезжайте в Витстен и откажите сторожу.
Он рассказал, что произошло, и прибавил:
— Я не желаю иметь у себя людей, которые считают, что я вижу привидения.
Я стал просить за сторожа.
— Нет, — сказал Мунк. — Пусть уходит. Это отвратительный человек. Каждый раз, когда я с ним разговариваю, он вертит руками. Стоит и вертит руками, а я с ним разговариваю. Руки у него бледные, белые. По-моему, он ничего не делает.
— Он ведь должен только следить за домом.
— Он считает, что я галлюцинирую. Я не могу видеть его белые как мел руки.
Как раз в эти дни я помогал Мунку устроить маленькую выставку в Лондоне. Мунк хорошо знал немецкий и французский языки, но плохо английский. К открытию выставки он дал в Лондон радиограмму: «I wish the exhibition held» [18]. Организаторам выставки было нелегко. Сразу же после открытия выставки из Лондона пришла телеграмма, сообщавшая, что за пятый вариант «Больной девочки» предлагают тысячу фунтов. Мунк обрадовался предложению: впервые его большая картина будет продана в Лондоне.