У античных авторов сохранился интереснейший рассказ о том, каким же образом именно Дарий получил права на престол. После убийства самозванца заговорщики стали решать, кто из них должен стать царем. Ни один не хотел уступить другому. Наконец все же договорились разрешить спор: на заре следующего дня претенденты должны были верхом выехать в условленное место (как указывает Помпей Трог, у царского дворца), и тот, чей конь заржет первым при восходе солнца, получит верховную власть.
Успех сопутствовал Дарию, он стал царем Ахеменидской державы. «Милостью» верховного бога называет свое вступление на престол сам Дарий: Ахурамазда — великий бог небесного свода — вручил ему царство, сделал его повелителем и законодателем, передав ему обширную землю, когда на ней господствовали вражда и волнения, чтобы именно он установил порядок на земле и благоденствие для людей. Так заявляет в своих надписях царь Дарий.
…На далеком небе живет высший бог Нуми-торум, хозяин неба. Далек он от земного мира и обычно не вмешивается в дела людей. Некогда царили на земле смута, вражда и убийства. В них приняли участие и семь сыновей Нуми-торума, отправленные отцом на землю. Решил бог прекратить усобицы, навести на земле порядок и установить на ней единого повелителя. Спустился Нуми-торум с неба и сказал сыновьям: тот из вас будет старшим над людьми и своими братьями, кто завтра на рассвете первым приедет к моему дворцу и привяжет своего коня к серебряному столбу. Раньше всех приехал Мир-сусне-хум, младший из семи братьев, и с восходом солнца привязал коня к серебряному столбу. Так стал он повелителем земли. Велел Нуми-торум другим братьям почитать Мир-сусне-хума за старшего, а людям — «за главного руководителя и судью»; молодому правителю «приказал он заботиться о людях». И стали жить люди в благополучии и богатстве под покровительством Мир-сусне-хума — «за людьми смотрящего человека».
Эта легенда была записана у манси в XIX в. путешественником и этнографом Н. Л. Гондатти. Невольно возникают аналогии с преданием о вступлении на престол царя персов Дария I. В основе обоих рассказов отражена традиция гиппомантии — избрание царя с помощью коня. Совпадает и ряд характерных деталей: решающий эпизод происходит на заре следующего дня, связан с восходом солнца; к серебряному столбу у дворца верховного повелителя должны были привязать коня братья-соперники в угорской легенде, спор знатных персов также решался у царского дворца (более того, в рассказе Геродота упоминается и о конской привязи на месте состязания); в обоих преданиях совпадает и число претендентов на власть.
Нет сомнений, что обе легенды связаны друг с другом. Если обычай избрания царя с помощью коня хорошо известен по религиозной и эпической традиции древних ариев (засвидетельствован он и у некоторых других индоевропейских племен), то у предков манси вряд ли могли самостоятельно возникнуть такие представления и особенно подобная практика избрания на царство. Угорские племена, как уже отмечалось, познакомились с коневодством в результате контактов с иранскими племенами, этим объясняется и возникновение у них культа коня (для иранских верований была обычной и связь коня с солнцем).
Поэтому есть все основания полагать, что мансийская версия легенды об избрании царя обязана своим происхождением представлениям тех иранских племен, которые некогда жили в соседстве с предками финно-угров. И вместе с тем легенда о боге таежного народа Мир- сусне-хуме позволяет уточнить и некоторые сведения иранской традиции об избрании на престол «царя царей», Ахеменида Дария I.
Независимо от того, происходило ли на самом деле избрание Дария путем гиппомантии или сам Дарий, не имея бесспорных прав на престол, заручился «поддержкой» древнего обычая, существенно само бытование подобной традиции в древнем Иране в эпоху великой империи Ахеменидов.
ТАИНСТВЕННЫЙ ЗВЕРЬ ШАРАБХА
К числу примеров древних связей ариев с финно-угорскими племенами можно отнести индийские рассказы о фантастическом звере шарабха. О нем не раз упоминается в древнеиндийской литературе, в сочинениях самого различного жанра и разной религиозной принадлежности. Шарабха обычно описывается как дикий могучий зверь, способный вступать в борьбу с крупными хищниками, превосходящий по силе даже льва. Древние индийцы полагали, что шарабха имел восемь ног (его называли аштапада — «восьминогий»), и считали его «жителем» снежных гор и лесов. Правда, представления о внешнем облике шарабхи были различны и даже противоречивы. Древние индийцы не могли объяснить точно, что это за зверь: его даже сравнивали с верблюдом, иногда с козлом, но чаще всего относили к разряду оленей.
Образ шарабхи был популярен и в буддийской литературе. Он главный персонаж двух буддийских джатак — поучительных сказаний о прошлых рождениях Будды. По представлениям буддистов, Будда некогда принимал образы различных людей, животных и божеств. Джатаки — религиозные сочинения, но они содержат популярные легенды и басни, различные фольклорные сюжеты, связанные с очень древними мифологическими представлениями.
«В некой отдаленной местности, где не встретишь человека и не услышишь человеческого голоса, служившей пристанищем стад различных древних животных, густо заросшей кустарниками и деревьями… где не проезжало ни колесо колесницы или повозки, ни нога спутника не ступала… жил Будда в облике шарабхи, одаренный силой, быстротой, большим и очень крепким телом…» Однажды царь верхом на коне, преследуя диких животных, заблудился и оказался в той далекой лесной местности. Увидев шарабху, он уже было направил на него свой лук, но стремительный зверь бросился бежать. Шарабха «встретил на пути большую расщелину и, быстро перепрыгнув ее, словно лужицу, побежал дальше». В этой, как и в другой джатаке, специально подчеркивается крепость тела, особая сила шарабхи, его изворотливость, помогающая ему избежать смертельной стрелы даже самого опытного охотника. Как-то шарабха, рассказывает джатака, был окружен опытными охотниками, которые похвалялись быстро расправиться со зверем. Но он так искусно избегал стрел, что охотники не могли его застрелить, и шарабхе подобно быстрому ветру удалось ускользнуть в горы, в лесную чащу.
Итак, что же это за фантастическое животное индийских легенд — многоногий лесной житель шарабха, обладающий огромной силой и быстротой, неуязвимый даже для смертоносных стрел искусных земных охотников? Может быть, это чисто сказочное животное, обязанное своим бытованием в индийских сказаниях исключительно вымыслу? Если проследить развитие индийских представлений о шарабхе, то выясняется, что эти неземные черты усиливаются и приобретают «демонический» характер. Конкретный образ животного все более отступает на задний план, хотя сохраняются его описания как зверя, похожего на оленя, но с более крупным телом, могучего и быстрого (сохранялась также традиция употребления мяса шарабхи в пищу). Можно полагать, что прообразом шарабхи в индийской традиции был лось, наиболее сильный и крупный представитель семейства оленевых, живущий в северной лесной зоне, обладающий быстрым бегом, способностью преодолевать различные препятствия, болота и реки, вступающий в борьбу с хищником («Хороший удар передней ноги лося, — свидетельствует А. Брэм, — иногда сваливает волка замертво»). С лосем — животным северных лесов и лесостепей — вполне могли быть знакомы предки индийцев на своей прародине.
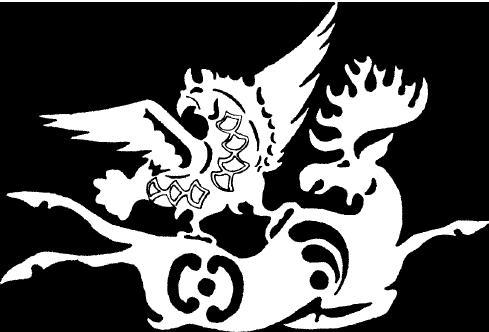
Лось в когтях грифа. Украшение из кожи. Пазырыкские курганы
Еще в начале XX в. венгерским ученым Б. Мункачи было высказано мнение, что древнеиндийское слово «шарабха» соответствует названию лося у угорских народов Зауралья — манси и хантов: «шор(е)п»; «сарп», «шарп» и пр.; эту точку зрения позднее разделяли специалист по финно-угорским языкам Э. Леви, санскритолог Т. Барроу и некоторые другие ученые. В настоящее время преобладает иное объяснение (известный финский лингвист А. Йоки, венгерская исследовательница Е. Коренчи и др.): упомянутые угорские названия лося связываются со словами из других финно-угорских языков, употребляемых в значении «рог» (фин. «сарви», эстон. «сарв», марий. «шур» и др., сравните: иран. «срва» — «рог»). Однако в этих финно-угорских языках лось обозначается иначе, а его названия «шарп», «сорп», сходные с индоиранским «шарабха», встречаются лишь в языке манси и хантов.