Эта математическая модель показывает (а наблюдения за реальными процессами ее подтверждают), что свою планету мы с полным основанием можем уподобить гигантской тепловой машине. Большую часть энергии для своей безостановочной работы она получает от Солнца. Причем если на экваторе и прилегающих к нему зонах поглощение солнечной радиации преобладает над отражением (солнечное тепло аккумулируется), то в полярных областях, где существуют снежные и ледниковые покровы, дело обстоит наоборот.
Основные, главные факторы и участники глобальных атмосферных процессов — циклоны и антициклоны, от которых зависит и «погода на завтра», и погодные условия на более или менее длительный промежуток времени (климат). Есть, конечно и другие погодо- и климатообразующие факторы, поэтому нарисованная выше картина циркуляции воздушных масс представляет собой лишь общую схему без деталей местного, глобального и даже космического масштаба, которые ведут к ошибкам синоптиков при составлении прогнозов погоды и чрезвычайно затрудняют прогнозирование изменений климата.
Словом «климат» древние греки обозначили наклон солнечных лучей относительно земной поверхности. В дальнейшем слово как бы оторвалось от своего первоначального значения и наполнилось новым содержанием. Оно стало понятием, обозначающим необычайно сложную природную систему, все компоненты которой взаимодействуют между собой по принципу прямых и обратных связей. Любая перестройка этих связей, чем бы она ни вызывалась, ведет к изменениям климата, нередко катастрофическим, о чем свидетельствуют крупномасштабные потепления и похолодания в прошлом. Вот почему так много усилий тратится ныне на выявление и изучение климатообразующих факторов, среди которых снег и лед, как уже говорилось, занимают одно из главных мест, выступая в роли усилителей циклических колебаний климата различной временной и пространственной протяженности.
Этим в основном и объясняется то внимание, которое ученые уделяют ледникам, рассматривая их как естественные холодильники планеты. Они уже своим существованием обусловливают постоянный перепад температур на поверхности Земли, вызывающий и регулирующий циркуляцию атмосферы. Если перепад увеличивается, то соответственно интенсивнее идет циркуляция, и наоборот. Ну а поскольку благодаря циркуляции различные участки земной поверхности обмениваются между собой теплом и влагой, то ясно, что чем энергичнее и интенсивнее циркулирует атмосфера, тем быстрее совершается обмен.
Наибольших размеров естественные холодильники достигают в настоящее время на обеих верхушках планеты — в областях, прилегающих к географическим полюсам. На севере это морские льды, ледники и ледниковые покровы, на юге — мощный ледниковый щит, под которым погребен целый континент — Антарктида.
В последнее время во всем мире весьма громко заговорили о таком климатообразующем факторе, как хозяйственная деятельность человека: сведение лесов, осушение болот, распашка степей, разрастание городов, загрязнение атмосферы промышленными дымами, создание огромных искусственных водохранилищ и т. д.
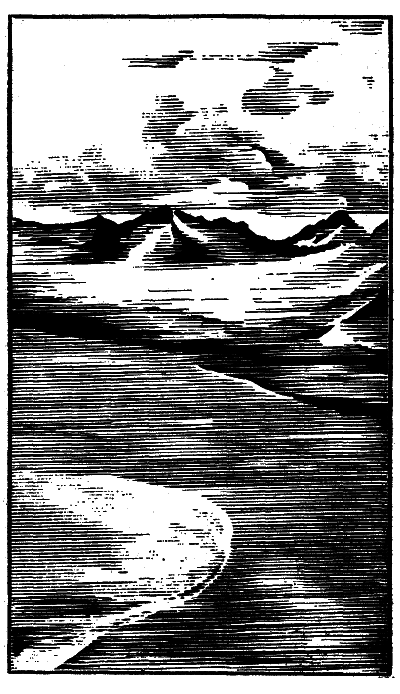
В связи с этим вспоминается бурная дискуссия, в 50-х годах выплеснувшаяся на страницы популярных и научных изданий. Ее вызвал инженерный проект уничтожения льдов в Северном Ледовитом океане. Что и говорить, подобные проекты, обещая колоссальную выгоду, с первого взгляда кажутся необыкновенно привлекательными. И действительно, разве мала была бы выгода, если бы по Северному морскому пути могли круглогодично ходить обычные суда, не боясь быть затертыми льдами, как это случилось с пароходом «Челюскин» в 1934 году? Кроме того, проект обещал улучшение на всем северном побережье климатических условий до такого уровня, при котором возможно развитие сельского хозяйства. Об одном только умалчивал проект: а как это отзовется на всех других климатических зонах? Специалистам было ясно, что осуществление такого крупномасштабного проекта (о том, в какую копеечку он бы обошелся людям, и говорить нечего) привело бы к печальным последствиям потому в первую очередь, что понизился бы перепад температур и, стало быть, циркуляция атмосферы тоже.
Одним из первых обратил внимание на связь между океаном, атмосферой и ледниками не геолог, не географ и тем более не климатолог, а моряк, капитан дальнего плавания Е. С. Гернет. Он высказал на этот счет некоторые идеи, но они, как говорится, повисли в воздухе, поскольку Гернет не располагал еще достаточной для их обоснования информацией. В ученом мире идеи капитана отклика не нашли. На них обратили внимание писатели М. Горький и К. Паустовский.
Однако четверть века спустя логика развития наук о Земле сама подвела ученых к проблеме взаимодействия триады — океана, атмосферы и ледников. Особенно успешно ее стали разрабатывать в последние десятилетия, когда ученые разных стран объединили свои усилия в рамках международных комплексных программ. Таких, например, как Международный геофизический год.
На Шпицбергене давно сотрудничают исследователи полярной природы, ибо этот архипелаг — нечто вроде естественного полигона, на котором природа «демонстрирует» от века сложившиеся как местные, так и глобальные связи и взаимодействия между физическими процессами, лежащими в основе циклических колебаний климата и погоды.
Вот зародившийся на севере Атлантики, в атмосфере над островом Ян-Майен циклон вдоль кромки льдов Гренландского и Баренцева морей надвигается на восточные берега Шпицбергена и Землю Франца-Иосифа, идет дальше и где-то у Новосибирских островов прекращает свое существование. И так на протяжении многих-многих лет вторгаются циклоны в Арктику, в ту ее часть, где расположены четыре архипелага — Шпицберген, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Северная Земля, — и питают их ледники влагой в виде снега.
Часть циклонов проходит по местной барической ложбине (так называется зона низкого атмосферного давления) между Гренландией и Шпицбергеном, где полярные льды встречаются с теплым течением Гольфстрим. Здесь циклоны набегают на западные берега архипелага и отдают им свой запас тепла и влаги.
Это два основных пути поступления питающих осадков для ледников Западного сектора Арктики, в первую очередь Шпицбергена, на протяжении тысячелетий.
Но это не означает, что на протяжении тех же тысячелетий климатические и погодные условия не менялись. Наоборот, их самая характерная особенность — непостоянство, колебания различного размаха то в сторону потепления, то в сторону похолодания. Соответственно этому ледники то отступали, то наступали.
Есть основания полагать, что примерно от девяти до двух с половиной тысяч лет назад (некоторые исследователи считают: от семи с половиной до пяти тысяч лет) природа на Шпицбергене была совсем иной, потому что тогда здесь было гораздо теплее, чем сейчас. Северное полушарие тогда подверглось потеплению, воздействию так называемого климатического оптимума. Воздействие было настолько мощным, что Северный Ледовитый океан покрывался льдом только зимой. Ясно, что совсем не оптимальным это время было для оледенения Шпицбергена, об этом убедительно говорят остатки морской теплолюбивой фауны, в частности ракушки Pecten, найденные нами в Дамес-моренах, а также торфяники. Вопрос же о том, исчезали ли тогда ледники полностью или нет, до сих пор, как говорят, остается открытым. Одни полагают, что архипелаг «разоледенялся» полностью, другие (в их числе и наш Л, С. Троицкий) допускают, что часть оледенения сохранялась — в виде неподвижных «мертвых льдов», то есть на архипелаге должны были остаться следы былых четвертичных ледников. Однако мы их не нашли, когда бурили скважины и брали керны. Между тем отличить «мертвый лед» от активного для специалистов не составляет труда, даже не прибегая к анализам, порой просто на глаз.
Есть еще один довод в пользу той точки зрения, что архипелаг все-таки «разоледенялся». Эпоха климатического оптимума не была кратковременной, она длилась несколько тысячелетий, то есть значительно дольше, чем это нужно, чтобы ледники полностью исчезли, деградировали. Подсчитано: даже с учетом довольно медленного отступания современного оледенения (например, с 1912 по 1936 год ледники Западного Шпицбергена утратили чуть больше одной десятой части общей площади, а за последующие тридцать лет этот показатель уменьшился втрое) на полную деградацию шпицбергенского оледенения понадобилось бы от четырехсот до тысячи лет, климатический оптимум длился же несколько тысячелетий. Вероятнее всего, нынешнее оледенение архипелага ведет свою родословную с конца климатического оптимума и его возраст сопоставим с возрастом египетских пирамид.