Адька и не задумывался никогда, счастлив он или нет. Это была его жизнь, которую он выбрал на десятки лет еще в девятом классе. А вечера можно было проводить с Колумбычем за нужной беседой о системе оружия, с которым охотятся на крокодилов, или размышлением о судьбах снежного человека.
Когда на Колумбыча накатила блажь и он нашел то самое место, Адька опечалился больше всех, хотя и вся экспедиция крепко была печальна.
Честного завхоза найти можно, но где еще найдешь человека, который разотрет по-отцовски ноги и спину после адовой ходьбы по курумнику с двумя пудами железных скоб на спине, и кто же еще в дождяную тоску расскажет про жуткие ветры в черных Гобийских пустынях или про вкус воды в колодцах джунгарских степей?
Ради проводов Колумбыча экспедиция «спустилась с гор» в приисковый поселок, откуда ходили автобусы до железной дороги. Всю дорогу Колумбыч, словно оправдываясь, толковал насчет всеобщего оскудения жизни для истинно бродячего человека: «Автобусы всюду ходят, и, говорят, скоро даже в Якутске паровоз загудит… Не-ет, пора на покой…»
В поселковом магазине взяли они несколько бутылок вина и пошли в столовую, чтоб уж там проводить Колумбыча по всем экспедиционным правилам. Но получилось скучновато: портвейн ни к лешему не годился. Колумбыч ковырял вилкой в тарелке и бубнил: «Вот вам, пожалуйста: прииск, золото, а в столовой «котл. руб. с верм. и под.», и в Самарканде это, и хоть куда ни заберись, везде будет столовка и будет стоять «котл. руб. с верм. и под.». Немного только развеял их один загулявший братишка-старатель. То ли для маскарада, то ли душа требовала, но вырядился он, как у Мамина-Сибиряка, в широченные шаровары и красную рубаху навыпуск. В одной руке нес человек никелированный электрический чайник, на носике чайника висел стакан, на другую руку нанизаны были круги краковской колбасы. И вот так этот хлебосольный малый подходил к каждому, кто сидел в столовой. «Пей», — и протягивал чайник со спиртом. «Закусывай», — протягивал руку с нанизанной колбасой. Все рассмеялись при виде доброго этого парня, а Колумбыч сказал: «Ну и чего смеетесь? Может, это последний человек на всю золотую Сибирь. И костюм-то у него, поди, из театра, а на чайник да колбасу всю зарплату угрохал — жена ему взбучку даст…»
В общем его, видно, окончательно заела тоска по какому-то неизвестному месту или уюту.
Когда автобус упылил к цивилизации и пыль улеглась, все стояли и вспоминали легенду о том, как шесть лет назад под Москвой на аэродроме полярной авиации не пускали в самолет человека с двустволкой.
В поселке им не сиделось, и они отправились обратно на свою базу в амурских сопках. Осень была. Адька шел и размышлял, что не родилось еще человека, который смог бы описать амурскую осень, когда сопки стоят прозрачно-желтые от пожелтевших лиственниц и по этим желтым прозрачным холмам раскиданы кусты красной рябины и хочется только одного: идти, идти и идти, и невозможно себе представить, что где-то кончатся эти желтые холмы, этот желтый солнечный воздух, и не верится, что бывает ночь, дожди, непогода, а просто веришь чуть не наяву, что некто неведомый и добрый просто перекрутил кадр, задержанный по недосмотру, теперь же на всем земном шаре будет всегда и везде так: желто, тихо и солнечно.
В голове у Адьки крутилась в это время любимая песня уехавшего Колумбыча:
Там далеко, там далеко страна чужая,
Три тысячи рек, три тысячи гор ее окружает,
Три тысячи лет с гор кувырком катится эхо —
Туда не дойти, не долететь и не доехать…
Так шли они по тропе, пробитой вьючными лошадьми, все выше и выше, все больше сопок открывалось им, а потом уже выползали дальние, которые были не желтые, а синие, очень четкие, как на контрастной фотографии, бурундуки верещали в кедровых кустах, кедровки перекликались, смоляной воздух крепче любого нюхательного табака так и бил в ноздри, и Адька, самолучший и личный друг Колумбыча, сказал: «Надо было нашего старика провести еще раз по этой дороге, потом отпустить. Куда бы он, ну подумайте сами, куда бы он, к лешему, уехал? Пусть мне весь этот Крым, и Ялты, и Ниццы в личную собственность подарят, я и пальцем не шевельну, чтоб туда переехать».
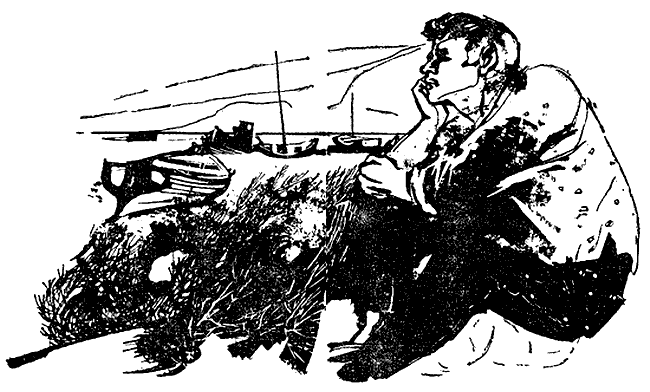
От Колумбыча стали приходить письма. Вначале писал кратко: «Дом купил, свой виноградник на пару бочек вина, солнце круглый год, в январе купаться можно, и все вы, ребята, идиоты, что прозябаете там, в дыре». Потом письма стали толстые и романтические, что тебе сто томов Майн Рида. Были в тех письмах греческие храмы с обломками статуй невиданной красоты, скифские курганы с сокровищами, гигантские плавни, где человеку заблудиться легче, чем грудному ребенку в необитаемой пустыне: сел в лодку около дома, зазевался немного — и очутился уже в Турции, кабаны там сидят за каждой камышиной и выжидают момент, чтоб вспороть тебе живот изогнутыми клыками, а чуть выше, в дубовых лесах, бродят свирепые медведи. Получалось, что всю жизнь он искал подходящее место, где мог бы успокоиться, а место это оказалось в самой что ни есть обычной европейской России, возле обмызганного туристами всех столетий теплого моря.
Но в тех великолепных письмах звучала плохо скрытая тоска, а так как адресовались письма Адьке, то ясно было, что Колумбыч пробует просто переманить Адьку на юг, играя на его неустановившемся характере и воображении.
Одного добился Колумбыч: все кинулись искать на картах этот интригующий городишко, но так его и не нашли, видно, слишком уж он был незначителен для карт. К весне Адьке подошел отпуск, настоящий шестимесячный отпуск, накопленный за прошлые годы. Адька решил было провести его в родном барабинском селе, но совет умудренных жизненным опытом ветеранов решил, что ему надо ехать на юг, ибо Адьке не приходилось еще переваливать через Урал, на европейскую сторону.
Тот же совет разработал краткую инструкцию, как должен вести себя человек на юге. Инструкция сводилась к тому, что на юге положено:
1) пить много сухого вина;
2) всемерно валяться на солнце около соленой воды;
3) крутить легкомысленные романы.
Инструкция не блистала новизной, но, по мнению ветеранов, именно в проверенности ее практикой человечества содержалась сила, способная удержать неискушенного Адьку от разных ненужных поступков. А уже перед отъездом появился еще один пункт. Начальник экспедиции Самлюков, легендарный ветеран картографии, отозвал Адьку в сторону и спросил риторически: «Ты знаешь, что нам предстоит на будущий год?»
Адька знал. На будущий год им предстояло черт знает что. Экспедиция должна была работать в одном районе по заказу армии. Район этот был глух и труден, но вся соль заключалась в том, что школа русских армейских топографов еще со времен Пржевальского имеет заслуженную мировую славу, и их гражданской экспедиции надо было показать работу высшего класса и еще чуть выше, ибо принимать ее будут признанные асы топографической науки.
— Это я к твоему отпуску, — сказал начальник. — У нас щербинка на месте выпавшего Колумбыча. Ты его должен представить на место. Езжай к нему, ликвидируй недвижимую собственность и тащи сюда. Дело не в том, что он нужный завхоз. Я десятки экспедиций провел, человечество знаю и знаю тот редкий кадр, который каменная стена, с одной стороны, и дрожжи для настроения — с другой. Понял?
— Понял, — сказал Адька и отбыл по той же самой дороге, по которой в прошлую осень отбывал Колумбыч. И все было так же, только на сей раз стояла весна, а в столовой не было малого с чайником. Видно, жена его и впрямь перевоспитала.