— Нет, — воскликнул Кон, довольный тем, что в эти дни не свалился от усталости раньше своих товарищей, ни разу не сплоховал, постигая профессию подпольного печатника, что его теперь без всяких оговорок считают настоящим революционером эти трое опытных, храбрых и хладнокровных подпольщиков.
Бронислав в знак согласия тоже кивнул.
В ресторане свой человек сразу же провел их в отдельный полутемный кабинет, где навстречу из-за столика поднялся высокий плотный юноша с темно-русыми вьющимися волосами, с очень синими глазами. Феликс узнал в нем ткача Яна Петрусиньского из Згежа, подавно перешедшего на нелегальное положение. Кон и Петрусиньский раза два или три встречались, и Феликс, сразу же проникшийся симпатией к молодому рабочому-революционеру, уже знал, что Ян его ровесник.
Петрусиньский, забыв поздороваться, подсел к столу рядом с Дембским.
— Я жду тебя с самого утра…
— Что случилось? — спокойно спросил Александр.
— Пока ничего, но может случиться, если проморгаем момент… В нашей организации, кажется, провокатор.
— Кто? — на той же ноте спросил Дембский.
— Франц Гельшер.
— Доказательства?
— Пока подозрения. Но серьезные. Видели, как он выходил из жандармского управления. Что бы ему там понадобилось? Если вызывали повесткой, то почему в Комитет не сообщил?
— Резонно. Давно заметили?
— Да уж дня четыре.
— Многовато. Надо немедленно установить за ним слежку. И поручите это… знаете кому? — Дембский на мгновенье задумался. — Его родному брату…
— Яну? — разом воскликнули Петрусиньский и Кон.
— Да, Яну Гельшеру, — твердо произнес Дембский. — Это гарантия того, что ошибки не будет. Есть у кого-нибудь сомнения в надежности Яна Гельшера?
— Нет, за него я ручаюсь головой, — воскликнул Петрусиньский.
— Я тоже, — сказал Дембский. — Если подозрения подтвердятся, тебе, Петрусиньский, поручается привести в исполнение приговор о казни провокатора.
От неожиданности Ян приподнялся со стула и, глядя все расширяющимися, нестерпимо синими глазами в непроницаемо-спокойное лицо Дембского, спросил срывающимся голосом:
— Приговор… еще… будет подтвержден?
— Разумеется, если подозрения подтвердятся. А это должен решить Комитет.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Странное то было время для Европы, время, принятое называть безвременьем. Уставшая от наполеоновских войн, натерпевшаяся страха в дни революций 1848 и 1871 годов, она стерпела и наглую демонстрацию военных и политических мускулов Пруссии, сделав вид, что ничего особенного но произошло. Героический континент как-то быстро превратился в тихую обывательскую провинцию. И только Англия, отгородившаяся Ла-Маншем, позволила себе негодование по поводу того, что Бисмарк, составляя Берлинский меморандум после разгрома Франции Пруссией, не дал себе труда предварительно проконсультироваться с правительством владычицы морей… Королева была взволнована тем, что Бисмарк обращается с ее страной как с третьестепенной державой.
Но, несмотря на треволнения британской королевы, Европа торопилась воспользоваться передышкой и ухватить свою долю удовольствий. В Париже улицу Ришелье по вечерам запруживали экипажи, подвозившие великосветскую публику к театру. В Вене сутками напролет танцевали. Приглашения на балы рассылались вперед на целый сезон. Иностранцы, побывавшие там в те годы, потом до конца своих дней с умилением вспоминали балы у князя Шварценберга, которые начинались в одиннадцать часов утра и заканчивались в шесть часов вечера следующего дня…
Венский двор свое «государственное время» посвящал преимущественно охоте в Гедолле, близ Будапешта. Император Австро-Венгрии в сопровождении кронпринца, окруженный молодцеватыми венгерскими магнатами на разгоряченных лошадях, с утра до вечера скакал по лесистым склонам, любуясь красавицей императрицей, которая в своей любви к лошадям доходила до того, что сама участвовала в скачках и ни с кем, даже с иностранными послами, не говорила ни о чем, кроме лошадей…
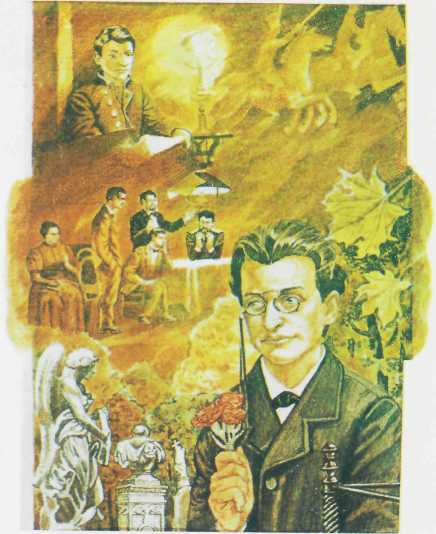
Рим на своих исторических холмах по облику и образу жизни все еще оставался Римом папских времен, хотя официально власть их над городом была ликвидирована в 1870 году. Велись раскопки Форума, обнажая, казалось, канувшие навсегда пласты эпохи Юлия Цезаря и Нерона. Средневековые палаццо аристократов стали местом постоянных развлечений. Целых десять дней перед великим постом центральные улицы города, утопающие в цветах, увешанные яркими тканями, затоплялись карнавалом: по ним проплывали разукрашенные колесницы, гарцевали всадники во всевозможных маскарадных одеждах…
Путешественники, проехав городские ворота, углублялись в Кампанью, тогда еще первозданно свободную от позднейших застроек и казавшуюся бесконечной в своей невообразимой древней красоте с ее акведуками, развалинами, холмами, раскаленными горячим итальянским солоцем, остановившемся в глубоком синем небе… Тогда Кампанья все еще была землей Каталины и Спартака, землей Гарибальди, а сама Италия — землей обетованной для многих поколений польских изгнанников. Здесь в 1794 году побывал Тадеуш Костюшко, посетил Рим, Неаполь, Флоренцию, а через несколько недель повстанцы объявили его «начальником государства». В итальянском городе Варесе хранится урна с сердцем Тадеуша Костюшко.
Сердце Костюшко будет возвращено Польше. В этом Феликс не сомневался. Он не мог только сказать точно, когда это будет, не знал, в его ли силах приблизить это время…
Но как ни очарователен левобережный Рим, а сердцу поляка все-таки милее левобережиая Варшава. Как ни поразительна площадь перед Капитолием с ее архитектурным ансамблем — творением Микеланджело, а душою поляк всегда там, на севере, на Замковой площади, где устремилась в небо колонна Зигмунта III, где у подножия Кафедрального собора святого Яна сгрудились дома и переулки Старого города.
О, как любил Феликс толкаться на рыночной площади в праздничные дни! Среди громоздящихся друг на друга крестьянских возов и разноголосо гомонящей живности, среди бесчисленных торговцев «вразнос», которым нет никакого дела ни до причудливого смешения стилей Возрождения и готики в отделке дворцов и костелов, ни до скопления средневековых домов с тремя окнами по фасаду и в три этажа, изукрашенных фресками, барельефами, рисунками по штукатурке… Каждый дом принес из глубины средневековья неповторимые названия — «под Крокодилом», «под Негритенком», «под Фортуной»…
А улицы Старого города, узкие и глубокие, как каньоны, сохранили названия когда-то протекавших по этой песчаной равнине речек. Ручеек улицы выводит к месту, откуда открывается вид на голубую привольную Вислу с островками, на правобережное предместье — Прагу, со множеством зелени парка, а дальше — желтые мазовецкие пески, синеющая вдали полоска восточных лесов под бесконечным голубым небом…
Феликс в Западной Европе впервые. Заграничный паспорт ему вручил Александр Дембский. А чтобы сбить с толку охранку, если ей вздумается последовать за Коном, он должен был изображать путешественника, наслаждающегося достопримечательностями древних городов Европы. Так впервые удалось побывать в Париже, а оттуда он переехал в Женеву.
Этот город, находящийся у самой границы с Францией, с населением, в основном говорящим по-французски, имел много преимуществ перед другими городами Европы, куда стекались политические эмигранты из разных стран света. Феликс буквально вырвал у Дембского разрешение посетить Женеву. Здесь, казалось, сам воздух был пропитан ученостью, располагал к неспешным размышлениям. Женевская академия, несколько лет назад переименованная в университет, была основана еще в XVI веке.
Многое в этом городе уходит своими корнями в глубокую старину. Все это так. Но даже публичная и университетская библиотеки с почти полумиллионным собранием книг не удержали бы здесь навсегда Феликса Кона, как не удержал бы и Париж с его Монмартрским холмом, с его ученым Латинским кварталом, с его Сорбонной и Национальной библиотекой, где хранится пять миллионов книг и рукописей, с его «Гранд-Опера» и «Комедд Франсез»…