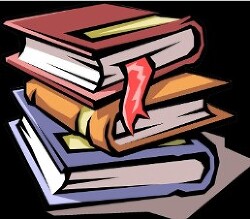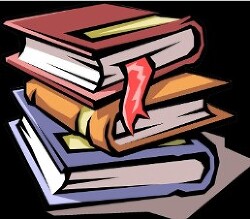Дилижанс, направлявшийся в Фалмут, замер на краю невысокого холма, его колёса дёргались и буксовали, натыкаясь на очередной гребень замёрзшей грязи. Лошади, запряжённые четверкой в упряжь, с трудом выдерживали нагрузку, топоча от нетерпения, их дыхание клубилось паром в бледном, туманном солнечном свете. Они, как никто другой, понимали, что их часть пути почти закончена. Стоял февраль, и всё ещё стоял сильный мороз, как и с самого начала 1818 года. Многие на южных подступах к Корнуоллу сказали бы, что холод длится дольше. Деревья были словно чёрные кости, словно никогда больше не дадут ни листа, ни почки; шиферные стены и редкие крыши ферм – словно отполированный металл. Кучер, огромный и бесформенный в своём тяжёлом пальто с пелериной, щёлкнул вожжами. Никакой спешки, никакой спешки; он знал своих лошадей и дорогу так же хорошо, как свои собственные силы. Пассажиры и багаж были на втором месте. В задней части кареты кондуктор, столь же неузнаваемый под слоями одежды и старым одеялом, вытер глаза, посмотрел на натужно напрягающихся лошадей и увидел, как откуда-то взмыла стая чаек, кружа, возможно, в поисках пищи, пока экипаж проезжал мимо. Море было совсем рядом. Лошадей меняли в официальных конюшнях, но он и кучер сопровождали карету всю дорогу от Плимута. Он пошевелил ягодицами, чтобы восстановить кровообращение, и почувствовал давление пистолета под одеялом. В карете ехали не только пассажиры, но и почта, а герб, украшавший обе двери, возвещал не только о гордости, но и о риске.