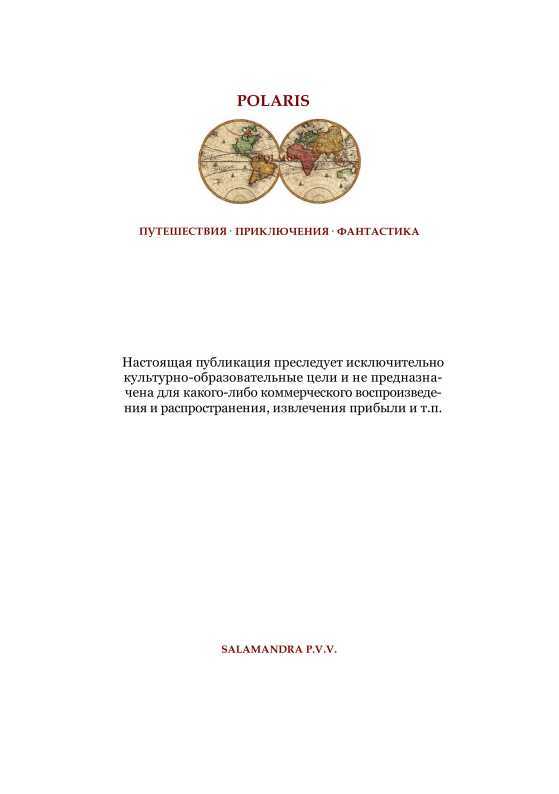Мне остается досказать немногое, и я буду краток и пренебрегу эффектами. Неулыбин и на этот раз оказался прав. На третий день после Крещения — Иреночка умерла. Доктор, приехавший слишком поздно, констатировал дифтерит. Медицина была уже бессильна, и паралич сердца неизбежен. Я избавлю вас от тяжелых подробностей конца этой прекрасной, так пышно распускавшейся жизни. С того времени двадцать раз цвели цветы и падал снег, но воспоминания эти до сих пор мучительны. Что мы пережили, легко представит каждый, потому что, — увы! — все мы богаты печальным опытом. Скажу одно: не придумать муки беспощаднее, чем мука потери родственной души в прекрасной оболочке девушки, только что расцветшей для любви и как бы созданной для того, чтобы тем, кому на земле темно, светить лучами своего счастья. Но эта мука становится адской пыткой, когда это, вчера еще прекрасное тело сегодня является предметом ужаса, и от него с трепетом сторонится все живое и желающее жить…
VI
— Может быть, вам любопытно узнать, не встречался- ли я с Неулыбиным после?
Нет, не встречался. Я скоро уехал из С., — там мне было слишком тяжело. Через год и Неулыбин покинул город. Он остался холостым и до смерти носил обручальное кольцо Иреночки, которое было уже заказано, но которое ей не пришлось одеть. Потом он был инспектором народных училищ и лет пять-шесть тому назад умер. Через знакомых я наводил справку об его последних днях. Мне было любопытно, — дала ли почувствовать себя на этот раз его исключительная способность? Я намекнул об этом в письме, но мне ответили незнанием. Умер он от чахотки, и скорый конец его можно было предвидеть…
За два дня до смерти он попросил перевезти себя в больницу и составил новое завещание. Может быть, он действительно уже видел смерть у своего изголовья. Но это могло быть и простой случайностью. И дай Бог! Сознание неизбежности перехода через день или два за таинственную грань земли, вероятно, было бы для него бесконечно мучительно…
Александр Измайлов
ПЬЯНЫЙ ЯД
I
Вчера в 9 ч. 20 м. вечера, босой и осторожный, как дьявол, я пробрался в директорскую и в отчетной книге против своей фамилии прочитал бессмысленные слова: «Первичное сумасшествие с идеями садического бреда». Как врач, я перевел латынь, и меня сотряс внутренний смех.
В моей власти было превратить книгу в кучу лоскутков. Психически больной не устоял бы на моем месте. Но я даже не написал на этой странице «идиоты». Я только подчеркнул тут же лежавшим цветным карандашом дурацкую строку и поставил около нее три вопросительных знака. Пусть они поймут сами!
Потом я так же осторожно вернулся в свою комнату и лег на койку. А ночью, когда мне по обыкновению не спалось, я взял бумагу я написал вот это, чтобы вы судили сами, похож ли я на человека, у которого первичное сумасшествие с идеями бреда.
* * *
В дворянском гербе моего рода есть жезл, — эмблема власти, а власть, как известно, редко обходится без насилия и жестокостей. Происхождение символа затерялось, но смысл ясен.
Родовая легенда рассказывает о моем деде, что однажды он вызвал на дуэль неприятного ему человека и проткнул его рапирой с тем спокойствием, с каким повар протыкает шашлык. Мой отец был известным хирургом, руки которого не дрожали в самых рискованных операциях.
Горе тому, кто родился сыном знаменитости. Люди не простят ему этого. И не простили мне. После одной убийственной хирургической ошибки, когда мое имя пронеслось с ненавистью и насмешкой, как мне казалось, по всему миру, я поставил крест над этой карьерой и добился того, чтобы меня забыли.
Что было потом, прежде, чем поседели мои виски и я заперся в своем имении, — это к делу не относится. Если вам все-таки любопытно проследить извивы моей психики, я скажу коротко. Да, здесь было много того, что обывательский язык зовет эксцессами. Было вино, были женщины, было все, что несет жгучее и острое наслаждение или блаженство забвения. Были радужные опьянения, гашиш, опиум, морфий.
II
Я поселился в имении отца, когда все эти развлечения молодости потеряли свое очарование.
Первые дни мне показалось почти счастьем это великолепное одиночество в старой усадьбе за высокой железной решеткой с острыми пиками, среди таких спокойных, таких мудрых, таких старых дубов. Такой великолепный девственный снег лежал повсюду! Чтобы не скучать, я выписал заранее из-за границы целую библиотеку и целый физический кабинет, — все новости медицины, все последние слова химии.
Был отведен целый угол двора, для разводки кроликов. В полдень я иногда заходил сюда и сам указывал тех, кто уже созрел для моего мраморного стола.
Вы скажете, что мои опыты были жестоки. Может быть, но не я первый додумался резать кроликов.
Впрочем, было бы неправдой сказать, что процесс вскрытия не доставлял мне удовольствия. Удовольствие было. Вы держите еще трепещущее сердце, уже отрешенное от тела, которое его живило. Все тело еще дергается в последних судорогах, но вам оно уже не интересно. Интересно это сердце, которое я могу заставить замолчать и снова заставить жить.
III
Каково было существо моих опытов? Они были разнообразны и иногда причудливы и фантастичны, как грезы старых алхимиков.
Меня интересовали все опыты так называемого оживления сердца. Но ничуть не менее занимали секреты пола, тайны оплодотворения, рождения, сна, тайны перехода жизни в смерть. Еще юношей последний вопрос увлекал меня с болезненным интересом.
Я был жесток к кроликам, но я был жесток и к самому себе. На себе, как in anima vili[27], я перепробовал все возбуждающие и усыпляющие средства. На собственном сердце я испытал гибельное и сладкое действие хлоралгидрата, и на мозговой корке чары сульфонала и гедонала. Однажды, под лошадиной дозой веронала я проспал, не пробуждаясь, 23 часа.
Было так тихо, что мир казался вымершим, когда вечерами и иногда ночью я сидел у своего мраморного стола. Во имя науки я загубил уже столько красноглазых животных, что ими можно было бы накормить французскую деревушку. Мои свиньи явно хорошели. И когда утром мой старик-лакей, очищая лабораторию, с отвращением двумя пальцами сбрасывал в корзину холодные, застывшие трупики, я видел на его лице осуждение моему маньячеству и «живодерству».
Я догадывался, что говорил он, что вообще говорила обо мне моя челядь. К счастью, это меня совершенно не интересовало. У меня крепкие нервы. И у меня были крепкие замки, которые я лично осматривал на каждую ночь, и острые пики на высокой железной решетке под окнами кабинета.
IV
Я прожил год в уединении, никуда не выезжая, не отвечая на письма, когда меня увлекла волна исследований алкоголизма. Ради научных удобств, я должен был заменить кроликов собаками. В усадьбе была целая псарня. Я зашел к старому егерю и, отделив десяток добрых псов, велел отослать их ко мне.
— И с этого дня, — сказал я, — не топите щенков. По возможности, выкармливайте всех. Они понадобятся.
Человек давно сделал животное участником своих пьяных радостей. Уже книга Маккавеев в Библии свидетельствует, что в древности боевых слонов напаивали перед боем, чтобы они были смелее. Африканские негры ловят обезьян на вино и потом пьяных берут за лапу и уводят в свои деревни.
Меня заняла мысль, что может дать алкоголь в конечном итоге. Разрушение, конечно, но этому разрушению не будет ли предшествовать волшебная вспышка утонченных и обостренных сил? Разве у меня самого не было в прошлом минут, когда, под влиянием таинственного могущества алкоголя, я становился остроумным, находчивым, талантливым? Когда-то ум обезьяны преодолел какую-то грань, и на земле явился человек.