Лозунг: «Грабьте друзей – это безопасно!»
О ворах можно говорить бесконечно, и даже интересно о них говорить, даже со странным уважением мы обсуждаем, бывает, их ловкость.
Но ведь Витя-то Ковалев возродил аппаратуру! И ничего другого не оставалось, как продолжить восхождение. И если склон бесконечен, то вовсе не имеет значения, в какой его точке ты находишься, отброшенный лавиной обстоятельств. Важно движение как факт, как содержание молодости.
Мы не ставили осознанных целей и не ждали от нашей музыки ничего, что можно было бы исчислить абзацами славы или деньгами. В начале семидесятых рок стал для моего поколения чем-то вроде кузни, где тебя испытывают на прочность и где из тебя не важно что выковывают, но или закаляют, или перекаливают.
Я начинал чувствовать, что перекаливаюсь.
Отчаянным весенним броском по бесконечному склону мы наконцертировались почти до предела, до истерии, от которой я спасался на стадионе, ворочая тяжести. Бегая и прыгая, в надежде воссоздать в себе спортивный талант, набросившись на спорт, как англичанин на ростбиф.
Никита Лызлов корпел над дипломом. Несостоявшийся абитуриент Никитка, закосивший армию Николай и страдавший от язвы желудка Витя Ковалев спасались по-другому. Это другое сплотило их надолго, это другое сожгло мосты и лишило запасного выхода, который был у нас с Никитой.
С этим другим подъезжал все время Валера Черкасов, и однажды он подъехал с банкой пятновыводителя, которым «дышал» и которым предлагал «подышать» Вите, Николаю и Никитке. Это другое мне никогда не нравилось, не нравилось инстинктивно, и я, пользуясь правом первого консула, обычно гнал с репетиции юных «пыхальщиков» – приятелей Никитки.
Во время концертирования на престижной и традиционной для тогдашней рок-музыки площадке Военмеха Никитка в «Бангладеш» загнул соло минут на пятнадцать, и это был его кайф и кайф Николая, Вити.
Я подошел и вывернул ручку громкости до нуля, но Никитка еще долго водил смычком по обесточенному альту, не понимая ситуации, а когда понял, вывернул за моей спиной ручку от нуля до предела и вонзился соло в куплет. Пришлось пресечь кайф бывшего школьника коротко и жестоко – я просто выдернул разъем, и выдернул так, что оборвался припой.
Но еще жило в концертах привычно-лирическое:
Любить тебя, в глаза целуя,
Позволь…
– пел Николай, и зал привычно готов был позволить все-все из того, чего ждал:
Позволь, как солнцу позволяешь
волос коснуться…
– и позволял он мне строить терцию Николаю:
Ты надо мной смеешься, что ж,
позволь с тобой смеяться!
А после такой терции я еще верил, что могу заткнуть рот любому соло и лишь окрика или жеста достаточно для того, чтобы движение «Санкт-Петербурга» продолжалось до конца, как факт, как содержание молодости. Но движение по бесконечному склону равно неподвижности.
Весенним истерическим концертированием мы лишь оплатили долги, образовавшиеся после восстановления некачественной аппаратуры.
Я же так старательно искал спасения на стадионе, что на меня тамошние смотрели как на пропащего, а мой тренер, великий человек, опять рискнул и предложил в середине апреля поехать в Сухуми на сборы, предложил таким образом готовиться к летнему сезону. Он предложил, я согласился и уехал, и все лето без особого успеха пытался доказать всем, что спортивный талант еще не пропал.
Летом мы несколько раз встречались на репетициях. Несколько раз даже «Санкт» кокетливо выступал без меня на незначительных концертах, а один раз выступил на большом ночном фестивале в деревянном клубе деревни Юкки. (Хороший человек Валера Кууск, приятель Никиты, снял событие на любительскую кинокамеру. Язнал о съемке и забыл. Посмотрел только четверть века спустя. Это немое кино потрясло – такие все классные, одетые в футболки с самодельными двуглавыми орлами на груди и числом «270» на спине. Такие классные парни и девушки в зале. Сразу вспомнил, как одевались тогда, вспомнил всё. Валера снял еще пару сюжетов с «Петербургом», и эта уникальная хроника еще ждет своего звездного часа.) Там Николай играл на гитаре и пел свои песни, а Никита подменял его на барабанах.
В сентябре «Санкт-Петербург» взялся за новую программу. Соскучившийся по музыке, я страстно репетировал целый месяц, а в октябре улетел в Фергану на осенний оздоровительный сбор, где были беззаботные дни, дешевые райские фрукты с базара и легкие тренировки. Я давно не был так спокоен, впервые, кажется, осознав, как должно выглядеть ровное счастье, и жалея после, что октябрь пролетел так быстро.
Вернувшись в Ленинград, я застал «Санкт» в клубе Водонапорной башни за репетицией новых сочинений Николая.
– Я тебя-а давно не знал тако-ой! – отличным жарким ритм-энд-блюзом встретили меня.
Я был согласен с ритм-энд-блюзом, но испортил в итоге репетицию праздной моралью и требованием немедленно разучить две мои новые песни, не разработанные толком, путал слова и аккорды, бодро покрикивая на Николая и Витю, а Никитке шутливо приказал вообще заткнуться и встать в угол в качестве профилактического наказания. Я не понимал, что загорелый, откормленный, натренированный, имеющий запасные выходы в виде спорта и диплома истфака, я одним только своим видомвбиваю клин в трещину, разделившую «Петербург». Я был достаточно молод и, соответственно, глуп, чувства мои оказались хотя и яростны, но поверхностны. Иначе бы догадался прекратить эти окрики, сытое ерничество, догадался бы увидеть в товарищах талантливых артистов, загнавших себя на сомнительную тропу, то есть нет, оставшихся вдруг на бесконечном склоне без человека, взявшегося, пообещавшего тащить вверх и вдруг если и не вышедшего из связки, но явно ослабившего ее…
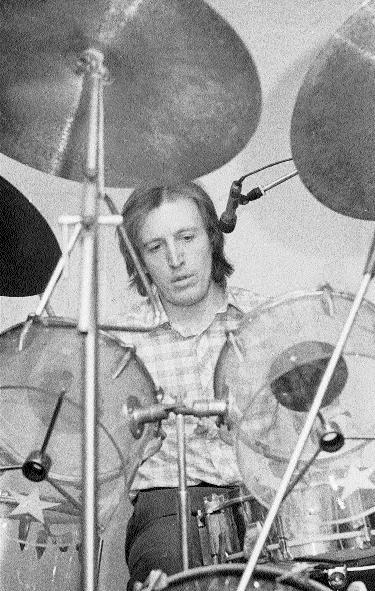
Весной Николай попросил выделить денег на покупку недостающих барабанов – малого и конгов. Мы решили выдать из общей кассы и в несколько заходов передали ему двести рублей. Наступил ноябрь, а барабанов нет. Хронически обворовываемый, я организовал расследование, благо его объект был всегда под рукой и не мог скрыться, и довольно просто выяснил – никаких барабанов не будет. Хронически обворовываемый и видящий воров часто и в друзьях, припомнив Николаю трудовой семестр в метрополитене, я организовал какую-то китайскую кампанию по шельмованию товарища и изрядно в ней преуспел. Странно улетучился с годами дар внушения – видимо, теперь не хватает для этого однозначности мышления и узости представлений о правильном. А тогда я мог часами говорить о том, на чем зацикливался, я и говорил весь ноябрь о несостоявшихся барабанах, и неожиданно Витя Ковалев, после часовой обработки, предложил:
– Давай его прогоним – не могу больше. Ведь ты прав. Мы вкалываем, ишачим, а он…
Мы стояли у Финляндского на кольце «сто седьмого», и я поразился выводам, сделанным Витей. Я вовсе не предлагал гнать Николая. Он являлся автором доброй трети «петербургской» продукции и вообще нравился мне.
– Как выгоним?
– А так! – Витя раскалялся на глазах и уже повторял произнесенное, убеждая и меня, и себя: – Выгоним к чертям. У меня есть барабанщик. Так невозможно жить, когда вот так… вот деньги… Он же с тараканами, и с ним никогда ничего не поймешь. И еще он, понимаешь, он вечно поносит меня, а я ведь, считают, первый басист в городе. Выгоним и выгоним…
На следующий день я подловил Никиту на химфаке и сказал:
– Надо гнать Николая, потому что так нельзя жить, когда кто-то, когда нам плохо, может за счет нас наживаться. Мы ведь дали ему на конги и малый, но не пройдет, хватит, нас сволочи уже кидали сто раз, и чтоб еще и свой!