— Совсем подлый народ! — говорил боцман, указывая пальцем на встречавшиеся джонки[17]. — Всякую нечисть, шельмы трескают. И крысу, и собаку, и лягушку, и стрекозу… что ему не дай, все жрет… Хлебушка-то у них нету… рис один, они и рады всякому дерьму. И вороваты канальи… Чуть не догляди — объегорит, — даром что длиннокосый. Когда я первый раз ходил в дальнюю на «конверте» (корвете)[18], и были мы в этих самых местах китайских, так раз ночью, братец ты мой, — мы в Шангае[19] стояли — подъехала на шлюпчёнке китайская морда, и что бы ты думал?… Медную обшивку вздумал, было, желторожий, отдирать… Уж жиганули ж мы его подлеца! — с веселым смехом рассказывал Щукин… — А пьют сулю какую-то, вроде будто водки, из риса гонят… нальет себе, собачий сын, в чашечку с наперсток и куражится… Просто тошно на их, подлецов, глядеть… Одно слово — идолы!
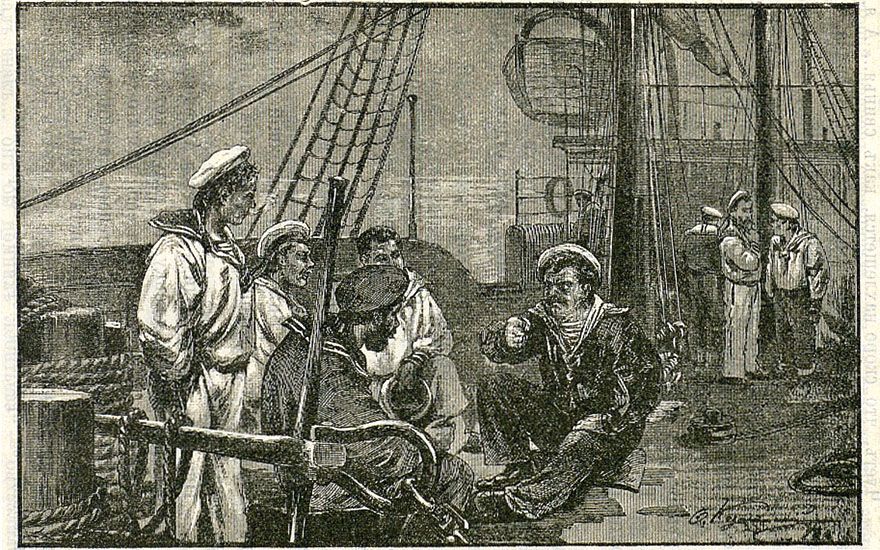
— Ишь лупоглазый то наш зубы скалит! — развязно заметил рыжий, в веснушках, франтоватый матрос из кантонистов, подходя к Аксенову и подмигивая плутоватыми бойкими глазами на боцмана.
— Он завсегда веселый перед берегом.
— Чует, что скоро нахлещется, как свинья… А я, братец, о чем хотел было попросить тебя, Ефимка! — заискивающим голосом продолжал рыжий.
— Ну?
— Дай ты мне в долг доллер[20], как ежели нас на берег отпустят… Совсем, брат, прогулялся…
Аксенов несколько времени молчал и, наконец, нерешительно отвечал:
— Ты бы у кого другого взял, Леонтьев… право… Хоцца, рубаху купить…
— Глупый ты… Зачем тебе рубаху?.. И тут вовсе нет хороших рубах… Ты рубаху лучше в Японии купишь… Там, так сказывают, рубахи!.. Дай, пожалуйста… Через месяц отдам… право отдам!.. — упрашивал Леонтьев.
— И прежние отдашь?
— Все сразу отдам… будь в надежде! — продолжал Леонтьев, глядя жадным взором на потупившегося товарища.
После некоторого колебания Аксенов пообещал, и Леонтьев весело заметил:
— Вот спасибо… Вижу, что настоящий приятель.. — Ужо погуляем в Гонконге! С Якушкой пойдем… Он бывал здесь.
— Ишь ведь… тоже люди! — дивуется Аксенов, глядя на близко проходившую джонку, на палубе которой толпились китайцы. — Сколько, подумаешь, разного-то народа у Господа! То малайцы были, а теперь китайцы пошли…
— Все один фасон — нехристь дикая! — с равнодушным пренебрежением кинул в ответ Леонтьев, считавшей за признак хорошего матросского тона ничему не удивляться.^. — А ты, Ефимка, дурак! — несколько спустя проговорил он. — Чего вчера, как, старший офицер спрашивал, ты не сказал про этого дьявола? По крайности, было б ему на орехи! Будь у меня на морде такая цаца, как у тебя, я беспременно бы сказал: «так и так, мол, ваше благородие, безвинно через боцмана Щукина пострадал!» А то «зашибся!»
— Чего жалиться! Ему и так будет! — промолвил Аксенов, стараясь придать себе важный вид.
— Уж не от тебя ли? — рассмеялся Леонтьев.
Аксенову очень хотелось посвятить приятеля в тайну вчерашнего разговора с Федосеичем, тем более, что он и сам хорошо не понимал, на что именно намекал старый матрос. Он, однако, вспомнил наказ Федосеича не болтать, но, воздерживаясь от искушения, все-таки загадочно прошептал:
— Небойсь, люди проучат!..
— Люди! — передразнил Леонтьев. — Какие это люди? Кто может проучить этого подлеца, кроме начальства?.. Ах, какая ты еще необразованная деревня, Ефимка, как я посмотрю! — с сожалением заметил Леонтьев. — Ударь он меня безвинно, да если со знаком, я бы нарочно на глаза капитану попался… Я бы не так, как ты… небойсь!.. А то: «люди!»
Аксенов, считавший обращение и ухарские манеры Леонтьева за образец матросского совершенства и старавшийся подражать ему во всем, был задет за живое, что его считают «деревней», и с сердцем возразил:
— Что-ж ты-то не жалишься… Вечор он тебя по уху тоже огрел!..
— То-то… без знаку… говорю, а ежели бы оказал знак… он бы помнил Леонтьева! — бахвалился матрос, видимо рисуясь и восхищая своими манерами простоватого товарища… — Эй, послушай Антонов! — обратился он в проходившему вестовому старшего офицера, — как у вас слышно, когда в Гонкоге будем?
— К вечеру, не раньше! — отвечал на ходу вестовой, спешно направляясь на бак. — Старший офицер вас к себе требует, Матвей Нилыч! — проговорил Антонов, подходя к боцману. — В каюте они…
Щукин оборвал разговор и рысцой побежал вниз. Перед входом в кают-компанию, он снял фуражку и вошел туда нахмуренный, осторожно ступая по клеенке. Не любил он, когда Василий Иванович требовал его к себе в каюту. «Верно опять на счет вина шпынять будет!» — подумал, морщась, боцман, просовывая свою четырехугольную, коротко остриженную, рыжую голову в каюту старшего офицера и затворяя за собой двери.
— Ты опять дерешься, Щукин, а? — строго проговорил Василий Иванович, хмуря брови.
Вылупив свои бычачьи глаза на старшего офицера, боцман угрюмо молчал, нервно пошевеливая усами.
— Смотри, Щукин, не выводи меня из терпения… Понял?
— Понял, ваше благородие! — сурово отвечал боцман и хотел было уходить.
— Постой!.. Который раз я тебе говорю, чтоб ты докладывал мне, если матрос провинится, а не расправлялся бы сам? Слышишь?
— Слушаю, ваше благородие! — еще суровее промолвил боцман. — Но только, как вам будет угодно, а за каждую малость не годится беспокоить ваше благородие… Тогда матросы вовсе не будут почитать боцмана! — решительно заявил Щукин обиженным тоном.
— Ты и не беспокой по пустякам! — проговорил, смягчаясь, Василий Иванович, чувствовавший слабость к старому боцману, — но только не очень-то давай своим рукам волю… Ты любишь это… знаю я. Ну за что ты прибил Аксенова? Полюбуйся, какой у него фонарь… Срам! Ты вед боцман, а не разбойник! — прибавил Василий Иванович. снова принимая строгий начальнический тон.
Щукин опять упорно молчал.
— Нагрубил он тебе, что-ли?
— Никак нет, ваше благородие!
— Неисправен был?
— Матрос он исправный, ваше благородие!
— Так за что-ж ты его прибил, скотина? — воскликнул, вспыливши, Василий Иванович.
— Матрос он еще глупый, ваше благородие!.. Не обучен, как следовает…
— Ну?
— Для острастки, значит, ваше благородие, чтобы понимал! — проговорил Щукин самым серьезным, убежденным тоном.
— Для острастки подшиб глаз?
— На счет глаза, осмелюсь доложить, по нечаянности, ваше благородие! — прибавил боцман, как бы в оправдание, снова принимая угрюмое выражение.
— Слушай, Щукин! Последний раз тебе говорю, чтобы ты людей у меня не портил! — строгим голосом начал Василий Иванович, подавляя невольную улыбку. — Ведь стыдно будет, как тебя разжалуют из боцманов?..
Щукин сердито молчал.
— Как ты полагаешь?
— Не могу знать, ваше благородие.
— А дождешься ты того, что узнаешь, если не перестанешь разбойничать. Ступай! — резко оборвал старший офицер.
Боцман исчез из каюты. Когда он поднялся на палубу, никто и не подумал бы, что его только что «разнесли» — до того важен и суров был вид у Щукина. Только лицо его побагровело сильнее, да глаза еще более выкатились.
— Видишь, боцман идет! Посторониться, что ли, не можешь… сволочь! — крикнул Щукин, намеренно задевая плечом Аксенова и поводя на него презрительным взором.
Молодой матрос отскочил в сторону.
— Жаловаться, подлец! — прошептал, проходя далее, Щукин, сжимая кулак и ощущая сильное желание заушить Аксенова в отместку за поступок, недостойный, по мнению боцмана, порядочного матроса.
— Так выучат люди, Ефимка? — посмеялся Леонтьев.
В эту минуту и сам Аксенов усомнился, чтобы нашлись люди, которые могли бы проучить грозного боцмана.