Согнанные со всех концов земли русской, в каждодневной упорной борьбе с природой, неся порой тяжелые потери, свершали свой неприметный и беспримерный подвиг тысячи строителей Петербурга.
За клином клин,
К доске - доска.
Смола и вар. Крепите сваи,
Чтоб не вскарабкалась река,
Остервенелая и злая…
Зубастой щекочи пилой,
Доску строгай рубанком чище.
Удар и песня…
Над водой -
Гляди - восходит городище…
Была у Петра такая привычка: мир ли, война - а из пятидесяти трех лет своей жизни воевал он примерно тридцать, - первым обучался он всякому новому делу, чтобы пример подавать, а потом и других учить. Подвижный, вечно куда-то спешащий, вечно куда-то едущий, из конца в конец исколесивший Россию и многие чужие края, он успевал всем заниматься, во все вникать. „Время яко смерть, - любил он повторять, - про-пущение времени смерти невозвратной подобно". И возводя на приневских болотах свой „парадиз" - рай, как называл он будущую столицу, Петр был верен себе: его исполинскую фигуру (роста он был 2 метра и 4 сантиметра) можно было видеть повсюду - и на бастионах Петропавловской крепости, и на только что заложенной Адмиралтейской верфи, и на соседнем с Заячьим, Городском острове, где поначалу строился город. Без его участия ничего не делалось, нигде не обходилось. Как рубить просеки в лесу и дороги прокладывать, как каналы рыть, куда землю и камни сыпать, чтобы топи сушить, где кому строиться, где какому зданию быть, - все сам решал. И уж, конечно, сам выбирал место для своего летнего дворца и сада, первого сада в Петербурге.
Облюбовал же Петр именно этот участок на левом берегу Невы, видно, прежде всего потому, что был он давно обжитым. Еще при шведах, в 60-х годах XVII века, стояли здесь деревянные строения; позднее принадлежал он шведскому майору Конау, построившему в своих обширных владениях мызу с садом. К тому же мыза Конау была довольно далеко от шума и грохота стройки Петропавловской крепости, а Петр, хоть и великан, и силой обладал богатырской, страдал тяжелым нервным расстройством, просыпался от малейшего шороха. Ночью мимо его дворца запрещалось не только ездить, но даже ходить.
Вероятно, еще и потому особенно приглянулось Петру это место, что почти со всех сторон было окружено оно водой, страстно любимой им стихией. Недаром у самого Финского залива построит он вскоре и дворец в Стрельне, и свою парадную резиденцию Петергоф, где у стен любезного его сердцу Монплезира ие умолкая плещутся голубовато-серые холодные волны.
В скором времени Летний сад был превращен в настоящий остров. С одной стороны к нему подходила Нева, с другой его омывала Мья или Моя. Правда, это была всего лишь узкая, болотная речушка, пригодная разве что для полоскания белья (потому и прозвали ее так - Моя, Мойка), но ее расширили и углубили. Потом Мойку соединили с вытекавшим из Невы Безымянным Ериком. В нем было много островков и заводей, но к тому времени он уже давал воду фонтанам Летнего сада, и постепенно его все чаще и чаще стали именовать Фонтанной рекой или попросту Фонтанкой. С четвертой же стороны сада, там, где текла маленькая речка с поэтичным названием Лебединка, чтобы осушить местность, соорудили Лебяжий канал. Так Летний сад оказался „вставленным" в великолепную, живую и трепетную, поблескивающую под лучами солнца водяную раму.
Обилие воды не только придавало саду особую красоту, делало его, как и Петергоф, таким непохожим на дворцовые сады и парки других стран, - по тем временам это было еще и очень удобно: в новорожденном городе почти не существовало дорог и передвижение по нему представляло немалые трудности. После хотя бы одного дождливого дня нигде ни пройти, ни проехать, и лошади и люди тонули в непролазной грязи. Поэтому реки использовались как главные пути сообщения, и на них, точно на улицах, всегда царило оживление: во все стороны сновали шлюпки, верейки и прочие суда, которыми снабжала жителей всякого звания Партикулярная верфь „для лучшего обучения и искусства по водам и смелости в плавании". Владельцы обязаны были держать свои суда в чистоте и исправности, потому что, как говорилось в царском указе, „сии суда даны, дабы их употребляли так, как на сухом пути кареты и коляски, а не как навозные телеги".
Летний сад, который Петр упоминает в своих указах, помеченных мартом - апрелем 1704 года, обычно считают ровесником города. И это, конечно, верно: ведь даже в масштабах человеческой жизни девять-десять месяцев не составляют существенной разницы. У ровесников же, как известно, всегда много общих черт, ибо растут и формируются они в одних и тех же условиях: продуманная простота и ясность, „регулярность" планировки, определившие облик Петербурга, были присущи саду с самого начала его существования.
Первый план Летнего сада, как позднее и план Петергофского Нижнего парка, вероятно, набросал сам Петр, повидавший еще во время своего заграничного путешествия с Великим, посольством знаменитые сады Голландии и немецких княжеств, Прославленные же французские парки - Версаль, Трианон, Марли, которые -удалось ему увидеть лишь в 1717 году, он изучал по многочисленным альбомам и книгам, специально выписанным из-за границы и хранившимся в его библиотеке, где имелись также издания, рассказывавшие об устройстве фонтанов и других увеселительных затей европейских „регулярных" садов. Но, как всегда, чем бы ни занимался Петр, воевал или строил, он окружал себя талантливыми людьми, опытными мастерами своего дела. Они-то и превращали его идеи-„эскизы" в рабочие проекты, претворяли их в жизнь, осуществляли в натуре.
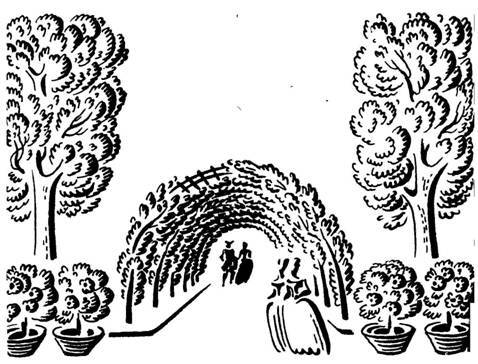
Первоначально, в 1704 - 1705 годах, разбивкой царского „огорода" (так в те времена обычно называли сад) и устройством в нем фонтанов занимался русский архитектор Иван Матвеевич Угрюмов; руководил работами сам Петр, придававший огромное значение своей новой резиденции. Среди забот о государстве, в суровых условиях военных походов, Петр постоянно о ней помнит. В 1704 году, отбивая нападение шведов на Петербург и Кроншлот, подготавливая взятие Нарвы, он отдает распоряжение прислать для Летнего сада „всяких цветов из Измайлова не помалу, а больше тех, кои пахнут"; летом 1706 года, незадолго до того, как отправиться на Украину, навстречу войскам Карла XII, велит прислать фонтанного мастера и сам посылает из Нарвы „коренья белых лилий", требуя, чтобы огородник „бережно их управил". Осенью того же года, примерно за месяц до первого похода на Выборг, приказывает везти из Новгорода многолетние липы.
Летят раскаленные пушечные ядра, в огне и дыму поля сражений, а к царскому „парадизу" на Неве со всех концов страны и из-за границы тянутся обозы: из подмосковных дворцовых сел груженные березами и яблонями, разными душистыми травами; из Киева и Воронежа - липами и ильмами, из Соликамска - кедрами и пихтами. Из Гамбурга везут каштановые деревья, из Любека - кусты душистой сирени, из Голландии - луковицы тюльпанов и цветочные семена. Из года в год все богаче становится зеленый наряд сада, все больше появляется в нем беседок, водяных потех, „фигур" свинцовых и мраморных. В начале 1710 года сад уже вызывает восхищение иностранных путешественников: „Вплоть у этой речки (Фонтанки), - пишет один из них, - царская резиденция, т. е. небольшой домик в саду, голландского фасада, пестро раскрашенный, с золочеными оконными рамами и свинцовыми орнаментами. Возле - небольшой птичник, в котором щебечут разного рода пташки. Далее - изрядная беседка из плетня и близ нее большой дом для придворной прислуги… Сзади, в саду же, другой большой дом с фонтанным снарядом, приводимым в движение посредством большого колеса, а подле - небольшой зверинец… Наконец, следует круглая оранжерея с разными небольшими при ней строениями… В середине сада большой, выложенный плитой, водоем, и в центре его грот, из которого бьет фонтан. В оранжерее выставлено несколько померанцевых, лимонных и лавровых деревьев, также гвоздичных кустов".