Рис. 5. Драцена, завернутая в вату вместе с горшком
От пальмы, как видно, на бескрайних пространствах Государства Российского все же никуда не деться. Пальма – символ власти, силы, царского могущества, самое, можно сказать, имперское растение в мире комнатного садоводства. Как запрещалось в Петербурге строить здания выше Зимнего дворца, так не след было и пытаться вырастить пальму выше той, что жила в Императорских оранжереях. Жалкая спекулятивная уловка с крышами была справедливо наказана, как бывает наказана всякая человеческая гордыня. Пальмы на крышах Петербурга – дерзкий вызов и состязание с монаршей властью, посягательство на незыблемость самодержавия. России американская демократия не указ.
Рис. 6. Чистка желобчатых листочков финиковой пальмы кистью
Пальмы в интерьере дома, в гостиных состоятельных граждан – это всего-навсего свидетельство лояльности, благонадежности подданных, знак довольства властью и своим местом в иерархическом государственном устройстве. Пальма скромного роста, во много раз ниже главной, императорской, в домах вельмож и чиновников высших разрядов служила демонстрацией верноподданнических чувств, если угодно. Обладателем пальмы мог стать не всякий, в данном случае сословные и имущественные различия неукоснительно соблюдались: цена сильно зависела от величины растения, владельцами самых внушительных экземпляров становились люди солидные, богатые, основательные, а бедный люд о пальме и не мечтал. В конце XIX века самый дешевый, Берлинский рынок предлагал российским покупателям растения по следующим ценам (в марках): наиболее распространенные сорта аристократки-пальмы шли, скажем, по 30 марок за один взрослый экземпляр (саженцы стоили дешевле), а фикус-простолюдин можно было выписать по 6 марок за дюжину. Так что каждый сверчок должен был знать свой шесток, к тому же величина растения естественным образом ограничивалась высотой потолка личных апартаментов. Потому вполне логично и даже справедливо, что самые величественные пальмы в России были собственностью дома Романовых.
Когда государь император в 1908 году пожаловал юбилейную выставку садоводства, проходившую в Михайловском манеже, пальмами из своих оранжерей, это было расценено как высочайшая милость.
Рис. 7. Обмывание листа перистой пальмы
«Уже одни пальмы Таврических оранжерей способны превратить, раз имеются для них подходящие помещения, всякую выставку в роскошный тропический лес. В этом отношении Петербург оказывается, пожалуй, счастливее даже крупных центров Западной Европы, хотя и располагающих гигантскими, растущими в грунту теплиц пальмами, но не имеющими, подобно Петербургу, столь же высоких и величественных пальм, находящихся в поддающихся в любой момент передвижению кадках, как это имеет место в Петербурге, где эти пальмы возятся в Зимний дворец для украшения придворных балов и празднеств».
А вот как именно упаковывались и выкатывались пальмы из Императорских оранжерей на улицу, каким образом доставлялись они в Зимний дворец, это, глубокоуважаемый читатель, предлагаю вам представить самим. Надо полагать, зрелище было не менее захватывающим, чем выгул слона по набережным Невы.
Тем не менее высшая награда за самый роскошный цветок в 1908 году на юбилейной и, пожалуй, самой роскошной российской выставке садоводства была присуждена отнюдь не пальме. Но сначала – несколько слов о других претендентах на медали, о фаворитах публики. Начнем с упоминания самых простых, традиционных, – таких как лилии и пеларгонии (герани) известного садоводства «Природа» А. Г. Бернгардта, и закончим диковинной коллекцией японских карликовых деревьев С. П. Дурново. Посетители любовались папоротниками из Елагиноостровской оранжереи, кротонами, антуриумами и каладиумами из Стрельны (Дворцовые оранжереи великого князя Дмитрия Константиновича; садовник В. И. Степанов). Граф Ф. А. Уваров из Пореченского садоводства Можайского уезда привез целый поезд пальм и хвойных, и газеты писали о толпе зевак, привлеченных на вокзал редкостным представлением многочасовой выгрузки ценного багажа. Из Крыма и из Царскосельских оранжерей доставил великолепные экземпляры араукарий П. П. Дурново (и получил за них, кстати сказать, вторую премию). Со всей России, не жалея затрат и не боясь риска – растения могли пострадать при транспортировке, – везли и везли в Михайловский манеж чудеса природы и садовнического искусства. Столица встречала провинциальных соперников во всеоружии.
«Таврические оранжереи выставили группу орхидей. Группа эта была необыкновенно эффектно размещена близ стены на убранных корою деревянных обрубках, что давало вид произрастания орхидей в природе. Помещенные же в различных местах этой группы разноцветные электрические лампочки вечером давали удивительный эффект, еще усиливая красоту расположенных в этой группе орхидей».
Но по традиции, как и все предыдущие годы, первое место на юбилейной выставке в 1908 году было отдано царице цветов – розе. Золотую медаль-уникум получил за коллекцию собственных сортов чайных роз известный садовод и предприниматель В. К. Фрейндлих, владелец оранжерей в Царском Селе.
Причем все эти розы-победительницы имели отличительные внешние признаки «петербурженок нежных»: круглая шапка из цветов и листьев эффектно возвышалась на высоком голом стебле. Подобная штамбовая форма была характерна только для горшечных цветов, культивировавшихся в столице Российской империи, и так и называлась – «петербургской прививкой». Внешний вид растений словно повторял геометрически правильные архитектурные формы города, его строгие шпили, гипсовые шары, украшающие входы в парадные подъезды, рифмовался с рукотворной красотой зданий и набережных. На европейских выставках цветоводства посетители всегда отмечали особый русский стиль, проявлявший себя даже в такой скромной области искусства, какой, казалось бы, является комнатное садоводство.
Предметом особой гордости Общества был тот факт, что до его образования в столице не было ни одного частного цветочного магазина, а к началу XX века их уже стало около полусотни, причем выбор растений ничуть не уступал лучшим торговым заведениям Европы. Разумеется, значительная часть ассортимента выписывалась из-за границы, но были и патриоты, собственные наши «Платоны и Невтоны» от садоводства.
А. Кернер фон Марилаун. Жизнь растений. С библиографическим указателем и оригинальными дополнениями А. Генкеля и В. Траншеля. СПб., 1900. Т. 2: История растений. Глава «Растение как вдохновитель художника»
Свежая зелень и цветы недолговечны, они скоро желтеют, вянут и теряют свою характерную форму; кроме того, их нельзя иметь во всякое время года. Поэтому явилось желание создавать изображение этих творений природы из прочного материала и заменять свежие растения неувядаемыми.
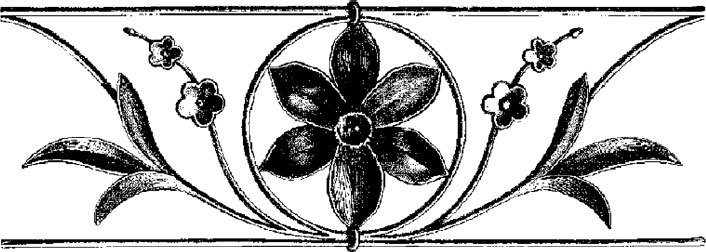
Благодаря свойствам металлов металлические растительные орнаменты представляют наиболее точную копию настоящих цветов, листьев и усиков. Железные орнаменты растений особенно часто попадаются на перилах и решетках, среди них выдающуюся роль играют так называемые узоры Arum: у них из середины чашечки выходят спирально завитые железные усики.
Очень распространены были во все времена орнаменты из камня, хотя материал этот по своей сущности значительно стесняет свободу художника; вероятно, в том и кроется причина того явления, что стиль цветов в барельефе намечается только в общих чертах и сочетается с массивными плодами. Если надо представить нежные цветы, то художник помещает их в нише или под защитной крышею.
Цветы встречаются на каменных изваяниях так часто, что ваятели и архитекторы выработали для различных форм определенные названия и свою специальную терминологию. Лилия – орнамент состоит из трех лепестков, из которых один прямой очень сильно расширяется кверху, между тем как два боковых выгнуты кнаружи и наклонены остриями к земле. Без сомнения, в этом стиле подразумевается не лилия, а касатик (Iris). Лотос – мотивом служит Nymphaea coerulea, не только цветы, но также листья и цветочные почки. Пальметта – этот чрезвычайно распространенный орнамент, бесспорно, возник из пальмового листа, именно из листа финиковой пальмы[2].