Но тут хуже: у нас не то чтобы два времени, у нас их легионы. Свое время для каждой точки пространства. Нет единого времени. “Времен” бесконечно много.
Время, показанное какими-то определенными часами, относится к какому-то определенному явлению и называется в физике “собственным временем”. Каждые часы предлагают свое собственное время. Всякое явление развивается в своем собственном времени, своем собственном ритме.
Эйнштейн научил нас получать уравнения, описывающие, как собственное время одного явления развивается по отношению к собственному времени другого. Он показал нам, как вычислить разницу между ними[10].
Единая мера – “время” – разворачивается в целую паутину разных “времен”. Мы не описываем, как мир развивается во времени, мы описываем только, как разные предметы развиваются в своем локальном времени и как одно локальное время развивается по отношению к другому. Мир совсем не похож на взвод солдат, дружно шагающих по команде сержанта. Он как сеть, сотканная из событий, влияющих друг на друга.
Так изображается время в общей теории относительности Эйнштейна. В ее уравнение входит не одно какое-то время, а времена в неисчислимых количествах. Между двумя событиями, при которых, например, разлучаются, а потом встречаются вновь двое часов, протяженность отнюдь не одна[11]. Физика не описывает, как развиваются события “во времени”. Напротив, она описывает, как развиваются события в своем времени каждое и как развивается одно время по отношению к другому[12].
Время потеряло свой первый привычный нам атрибут – свою единственность. В каждом месте у времени свой ритм и свой шаг. Сплетаются в танце с разными ритмами разные вещи. Если мир управляется танцующим Шивой, то Шива должен быть не единственным, должны быть десятки тысяч Шив, объединенных общим танцем, словно на картине Матисса…
Глава 2
Утрата направления
Когда и нежнее Орфея,
что деревья музыкой трогал,
ты заиграл бы на цитре,
и то не согрел бы крови
бесплотной тени…
Тяжкая участь, но легче становится,
если смириться с теми вещами,
которым обратный ход невозможен
(i 24)
Откуда взялся вечный поток?
Часы идут с разной скоростью на горé и в долине, но разве этим время для нас по-настоящему интересно? Вода в реке тоже у берегов движется медленнее, а в середине быстрее, но это все равно поток… И время – разве оно не бежит без остановки от прошлого к будущему? Оставим вопрос о точном измерении минувшего времени, которым я занимался в предыдущей главе, – каким числом измеряется время. Есть кое-что поважнее – его бег, течение, вечный поток из “Дуинских элегий” Рильке:
…Вечный поток омывает
Оба царства, и всех он влечет за собою,
Там и тут заглушая любые звучанья
[13].
Прошлое и настоящее отличаются друг от друга. Причина предшествует следствию. Боль возникает вслед за полученным ранением, а не предшествует ему. Бокал разбивается на тысячи осколков, но тысячи осколков не складываются в бокал. Прошлое нам не дано изменить, хотя дано хранить по поводу прошедшего сожаление, раскаяние, воспоминания о пережитых моментах счастья. Будущее – напротив, ненадежная область ожиданий, надежд, беспокойства; открытая зона возможной судьбы. Мы можем ради него жить, выбирать его себе, каким хотим, его же еще нет, все еще возможно… Время не похоже на линию, оба направления вдоль которой одинаковы: это стрела, и два ее конца не сходны.
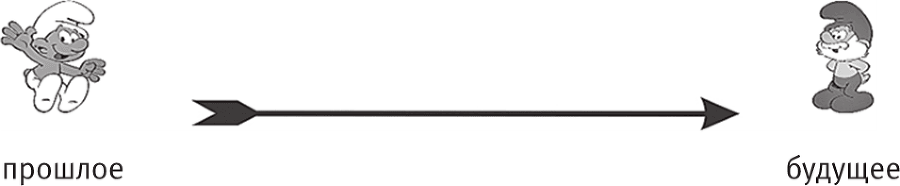
И это именно то, что находится в самом сердце времени в гораздо большей степени, чем скорость его течения. Тут сердце времени. Превращение будущего в прошлое мы чувствуем кожей, заботы о грядущем загадочным образом уступают место воспоминаниям о прожитом; в этом превращении главная тайна, суть того, о чем мы думаем, говоря о времени. Что же именно протекает мимо? Как эта субстанция скрыта в грамматике нашего мира? Что отличает прошлое – и то, что оно уже случилось, – от будущего – и того, что оно еще не наступило, – в слаженной работе механизмов нашего мира? Почему прошлое так не похоже на наше будущее?
Физика XIX и XX веков столкнулась с этими вопросами и в попытках ответить на них пришла к неожиданным и обескураживающим выводам – куда более странным, чем тот факт, что время в разных местах течет с разной скоростью. Вся разница между прошлым и будущим, между причиной и следствием, между воспоминанием и надеждой, между раскаянием и намерением… в основополагающих законах, определяющих функционирование нашего мира, просто отсутствует.
Теплота
Все началось с цареубийства. 16 января 1793 года Национальный конвент в Париже проголосовал за смертную казнь короля Людовика XVI. Вероятно, глубокий корень науки – это мятеж: не признавать сложившийся порядок[14]. Среди тех, кто объявлял об итогах рокового голосования, был Лазар Карно, друг Робеспьера. Лазар восхищался великим персидским поэтом Саади Ширази, тем самым поэтом, которого в Акко захватили в плен крестоносцы и продали в рабство, тем самым, чьи великолепные стихи украшают здание ООН:
Одно сынов Адама естество,
Ведь все они от корня одного.
Постигнет одного в делах расстройство,
Всех остальных охватит беспокойство.
Тебе, не сострадающий другим,
Мы имя человека не дадим
[15].
Вероятно, другой глубокий корень науки – поэзия: видеть за пределами видимого. В честь Саади Карно дал своему первому сыну имя Сади. Так он и появился, из мятежа и из поэзии, – Сади Карно.
Юноша страстно увлекался паровыми машинами, которые как раз в начале XIX века начинали менять мир, приводя вещи в движение силой огня.
В 1824 году он написал небольшой трактат с заманчивым названием “Размышления о движущей силе огня”[16], посвященный поискам теоретических принципов работы таких машин. Этот трактат полон ошибочных идей: в нем тепло представляется какой-то конкретной вещью, своего рода жидкостью, которая производит энергию, когда “падает” от нагретого тела к холодному, подобно тому как вода, переливаясь через запруду, производит энергию при падении с высоты вниз. Но ключевая идея была верна: паровая машина в конечном счете работает именно потому, что тепло от нагретого тела переходит к ненагретому.
Трактат в итоге попал в руки строгого прусского профессора с вдохновенным взором – Рудольфа Клаузиуса. Он ухватил суть и дал первую формулировку закона, которому предстояло стать знаменитым: если ничто вокруг не изменяется, то тепло не может передаваться от холодного тела к горячему.
Принципиальное различие с падающими предметами: мяч может упасть, а потом вернуться на место, например, отскочив. А тепло – нет. Провозглашенный Клаузиусом закон – единственный общий закон в физике, который отличает прошлое от будущего.