Внутри опять что-то зашевелилось. Моментально забыв про все, Клавдия начала слушать себя, сжав покусанные губы.
Потом девки про нее забыли. Началась суета, и из ближнего проулка на черном иноходце выехал Родион. Коня звали Чертом. Нельзя было придумать ему другой клички: в нем и вправду жила нечистая сила, если, конечно, в конях ей жить положено. Она переливалась кручеными мускулами под блестящей шерстью, готовая себя показать. Крутая шея, бешеный взгляд красноватых глаз умного зверя, и легкая пружинистая поступь высоких ног. Такой кого зря на спину не примет. Черт, одним словом, настоящий.
По толпе ветерком прокатился шепоток:
— Глянь! Глянь! Ерофея Спиридоновича лошадка. Ишь, с кем управились.
— Сразил его Родя. За родителя посчитался.
— И коня взял?
— А ты думал — дареный? Ха-ха-ха!
Родион спрыгнул с иноходца, отдал короткое распоряжение Носкову, сам прошелся вдоль обоза, не обращая внимания на земляков. Затем отбросил полу тулупа, поставил ногу в стремя и без натуги, словно кто подтолкнул, снова взлетел в седло. Деревянная кобура маузера при этом шлепнула по заиндевелому боку жеребца. Красиво получилось.
«Эхма, — вспомнила Клавдия. — За кресного попросить забыла. Ну, что его в кутузку тащить? Так позору натерпелась. А я забыла…»
Покосилась на занятые льдом окна дома, махнула рукой на добрый случай: вдруг увидят. Думать уже некогда — сейчас конь дернет сани. Коротко прекрестилась и изготовилась к толчку.
Обоз тронулся. С треском, похожим на выстрелы, отрывались прикипевшие к дороге полозья. Шарахнулись от возов ребятишки, только собаки норовят проскочить меж человеческих ног и полаять в заиндевелые лошадиные морды.
Все перемешалось в большой шум, все подчинено влекущему настроению дороги, словно закрытая сила ее неожиданно распахнулась и потащила на своей ледяной спине водоворот людских забот, чтобы вывести их из Ворожеево и освободить место для новых.
Вот уже и овраг за крайней избой образовался. Клавдия осторожно повернула голову. Через плечо смотреть трудно, но не смотреть она не может. И видит, как голубой дымок над крышей дома вытянул длинную, гибкую шею, смотрит ей вслед. И печалится душа в обидчивой тоске, словно не ты, а от тебя убегает деревня…
При въезде в ближнюю тайгу сани тряхнуло на старом горбатом корневище. Возница ругнулся, скосив над высоким воротником тулупа голубой глаз. Сказал:
— Ты, того, девка, ловчей сиди. Трясковато будем ехать.
Она ему не ответила. Ей все еще было жалко себя, покинутую деревней и родителями.
Бич возницы описал плавную дугу, резко стеганул воздух.
— Паф! — стрельнула по морозцу сыромятина. Щелчок уколол поясницу и остался торчать в ней тонкой иглой. Клавдия пошевелилась, боль ушла.
Проезжали Егоровский покос, знакомые места. На том счастливом взлобке все гуран с косулешкою голубились. Непуганые были, молодые. Сколько она их радостей подсмотрела. По осени крестный обоих добыл: ленился далеко ходить.
Клавдия вздохнула. Небо уже потеряло утренний румянец, налилось молочной синевой. Постреливают отпущенные холодом деревья, похоже, кто по тайге с бичом носится: хлестанет и спрячется за сосенку.
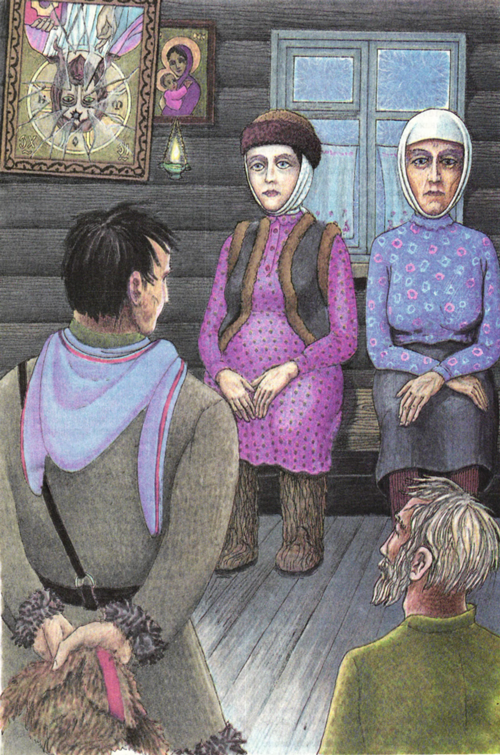
За покосами тайга начала чащиться, подступая вплоть на поворотах к гибким бокам леса. Молодой кедрач стелил над головами темные, густые ветви, покрывая путь почти вечерней тенью. У собак настроение потерялося, начали отставать. Одни пятным следом в деревню отправились, другие свернули на набитые зайцами тропы в надежде словить прикорнувшего ушкана на лежке. Лишь большой, волчьей масти кобель Егора Плетнева Морхой продолжал бежать рядом с санями, кося желтоватым глазом в потерянное лицо хозяина. Чуял пес неладное, помочь был готов всей своей собачьей преданностью. Егор его, однако, не замечал. Замкнулся в худых мыслях, ругаться и то забросил. Случилось так, что разняли их всегдашнюю близость человеческие заботы хозяина. Хозяин думает, чем грех свой перед властью смягчить. Морхой тоже думает, по-своему, по-собачьи. О чем, не поймешь.
На повороте, где дорога окручивала болото, собака неожиданно вскинула голову, без раздумий прыгнула в снег. Наст провалился, но пес продолжал грестись изо всех сил к ельнику. Егор мигом очнулся, все печали — побоку. Смотрит: не зря сиганул, пытанный кобель. И верно.
Из-под накляпшей ели неуклюже выбрался глухарь. Чернущий петух, с синим отливом на шее. Побежал вразвалку от собаки, перебирая прутиками лап, да так в чащу и ринулся, захлестал крыльями по веткам, зашумел на весь лес.
— Неспокойная птица, — сказал бородатый возница, — пока на крыло встанет, всех растревожит.
Клавдия только согласно улыбнулась. Внутри ее уже притихло. Никто не двоился, не брыкался.
«Спят, набегались, сорванцы, — решила она. — Хоть бы не началось: с двумя как управишься?»
Дорога сделала еще один поворот, круто ушла вверх на Шумихинскую гриву. Возчики повскакивали с облучков, пошли рядышком с возками. Кто в козлянке отправился, тому на подъеме забот мало, зато тулуп в горе — настоящая баня. Скидывать надо. Бородатый возница еще в самом подоле гривы свой сбросил, и как усох, оказался мужичком не больно справным, даже худым, но в чистой суконной рубахе-косоворотке, подпоясанной новым сыромятным гужиком.
«Береженый мужчина, — оценила Клавдия, — в ноге легок, отдышки нету. Тайгой, поди, живет».
Теперь обоз двигался медленно, с отдыхом. Оно, конечно, разумней было гриву по Косой степи объехать, но закипел Нельвинекий ключ. Не рано — не поздно, по своему времени, запузырился лишней водою. В такой напасти ход не сыщешь, и пришлось гору бодать.
По вершине гривы тайга начала редеть сразу, как рассыпалась. Пошли выруба с кедровыми островками среди мелкого подроста. Годов десять назад по тем местам лес брали на строительство школы в Ворожеево. О шумихинекой сосне не спорили — хорошее дерево, да и склон подходящ — без задиров. Свалили артельно. Артельно возвели дом с резными наличниками, при строгом досмотре отца Никодима, человека со всех сторон положительного, здравого рассудка и твердой воли. К тому же абсолютно трезвого. Одно ему в укор — излишняя горячность.
Но мир его избрал и миру служил он истово. Где слово Божие не шло в прок, там восстанавливал батюшка справедливость мирским способом. После чего душа его, уязвленная мерзким деянием тела, пребывала в жалком унынии. Единственным утешением для грешного было то, что не своя корысть, а забота общая подвинули его к худшему поступку.
— Кто есть слуга Божий, как не человек, раб страстей своих, данных мне во искушение, — рассуждал он покаянно перед утомленными общим трудом селянами. — Не смирен дух и плоть моя, совесть от грехов не очищена. Буйствуют. Это есть признание моего недостоинства. Однако подумайте — кто подвинул меня к сему состоянию?
С тем уходил. И долго молился в пустой, тихой церкви. И все знали о его молитвенном подвиге, прощая ему мирские вольности. Только Бог не простил: в канун Лазаревой субботы был ушиблен отец Никодим нечаянным бревном.
Он отошел быстро, без тяжких мучений, сказав напоследок:
— Пусть Бог приведет вас к познанию себя. Тем спасетесь.
И, обратив взор свой в сторону новенькой школы, отошел..
Стоял спелый полдень, тепло, пахуче цвела верба. В погребах потели бутылки с самогоном. Сурово молчали мужики. Они провожали душу, в коей грешила их мужицкая природа, но более возвышенная, имеющая дар любви, осознания дела Божия, и грех было жаловаться на нее за произвольное нерадение или неверность общежительским интересам.
Низкая мера разумения не давала им возможности понять, как разберется Небесный Судья в таком запутанном деле, однако, не сговариваясь, они принесли в осиротевшую церковь свечи и покаянные свои молитвы, в коих просили Создателя облегчить на небе участь их несчастного пастуха. Никто не блудил в слове, прося Господа простить ему «всея согрешения вольные или невольные и даровать Царствие Небесное».