— Да. К тому же ужасно глуп! Чертова птица…
— Как его зовут?
— Кого? Попугая?
— Да нет же! Этого твоего астролога!
— Мариан.
— Ага. Хорошо. Как-нибудь зайду… Пока…
— Пока! Заходи, звони…
— Ага.
Штефица Цвек и попугай,
в действительности оказавшийся замаскированным негодяем
(окантовка)
С приходом весны появляются комары. В качестве первой помощи от укусов годится сок репчатого лука. Несколько капель вотрите в место укуса — боль и зуд заметно уменьшатся.
На этот раз Штефица окончательно и бесповоротно решила не выходить из депрессии. Даже Аннушка… Даже Аннушка полюбила!.. — рыдала Штефица.
Она и сама не могла бы толком объяснить, почему Аннушкин новый роман вверг ее в такое отчаяние. Однако, поразмыслив, Штефица пришла к выводу, что, видимо, человек уж так устроен, что всегда должен быть кто-то, кому хуже или хотя бы так же плохо, как и ему. Аннушке всегда было хуже.
Вдруг как гром среди ясного неба Штефицу пронзила догадка: попугай! Точно! Попугай! Аннушка ведь и купила-то его, потому что вечно была в депрессии. И с той самой минуты все повернулось к лучшему. Попугай, очевидно, был слабым, тайным голосом жизни, просьбой о помощи, скромным знаком судьбы — как отдернутая штора на окне, или вазочка с цветком, или свет в комнате… Судьба заметила Аннушкин знак.
Уж если на то пошло, думала Штефица, попугай меньше и дешевле собаки, это даже и не животное, а всего лишь птица, собака к тому же лает, а попугай — нет, только трещит, щелкает семечки и наверняка веселее собаки…
А, была не была, и Штефица купила попугая. Тетя предложила назвать его Перо. «Только бы он не ждох у наш жа полгода!» — заметила она.
Перо был веселой и симпатичной птицей. Он не умел разговаривать, и это нравилось Штефице. Аннушкин — тот даже по телефону спокойно поговорить не дает…
И в жизни у Штефицы Цвек все повернулось к лучшему. Маленькая симпатичная птичка внесла в тихий дом Штефицы Цвек и ее тетушки перемены. Штефице просто некогда стало грустить. Однажды после обеда Штефица сидела и перелистывала журнал мод. Тетушка дремала в кресле. Лучи послеобеденного солнца проникали в открытое окно и бегали по стенам. Штефица тихо закрыла журнал и будто впервые увидела комнату, тетю в кресле, игру солнечных зайчиков и ощутила, как жизнь ее наполняется теплом и что еще много тепла у нее будет…
Вдруг Штефица услышала странный голос:
— Штефица с жиру бесится!
— Что-о-о?! — взвилась Штефица.
Из клетки на Штефицу маленькими черными глазками не мигая смотрел попугай.
— Штефица с жиру бесится! — повторил он равнодушно, каким-то старческим голосом.
Штефица покраснела, поднялась и снова села. Казалось, ей не хватает воздуха. Она смотрела на попугая, который сидел неподвижно. Но только он опять открыл свой злобный клюв, Штефица вскочила, поставила клетку на подоконник и открыла дверцу. Попугай не спеша вышел из клетки и, даже не взглянув на Штефицу, улетел.
— Дохлятина! Негодяй! — крикнула ему вслед Штефица.
И снова села. Слезы текли сами по себе. Она уставилась на пустую клетку. Слезы текли по щекам. Проклятый попугай! Слезы лились ручьем. Пригрела на груди змею. Слезы лились потоками. Сердце разрывалось. Слезы хлестали из глаз. Ей чудилось, что жизнь висит на волоске.
— Швятая Клара! — пробормотала вдруг сквозь сон тетя. — Днем шьет и поет, ночью порет и плачет! — Она поворочалась в кресле и захрапела.
Штефица Цвек размышляет о первой дефлорации,
о второй дефлорации и самоубийстве
(планка с прорезными петлями)
Знаете ли вы, как определить, готовы ли овощи? Если они опустились на дно посуды, значит, готовы, а если плавают, то еще нет.
Да, их было двое! Эла сказала: «Не болтай глупости! Дефлорация есть дефлорация, значит — первый раз!» Штефице не нравилось слово «дефлорация», но Эла сказала, что пришло время называть некоторые вещи своими именами. Ах, Эла… Эла — это совсем другое дело!
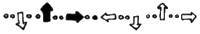
Первый был сыном соседей Шкаричевых. Они вселились позже других. Короче говоря, он был электриком четвертого разряда. Он сходил с ума от всего, что можно было разобрать и собрать, и по всему, что можно было зарифмовать. Впервые встретив Штефицу в коридоре, он сказал: «Куда, малыш, со мной поспать спешишь?» Потом Первый часто заглядывал к ним и шутил с тетей: «Тетя, в зятья возьмете?» И та, бывало, приговаривала: «Пуштожвон! Настоящий пуштожвон!» А потом сломался телевизор, а тетя была в Босанской Крупе. Первый долго ходил вокруг телевизора, и тот в конце концов заговорил, потом он долго ходил вокруг Штефицы… Вот так. Случилось, а она и сама не знает как… Единственное, что запомнилось, — это шум сгоревшего телевизора. Штефице не понравилось. Первому понравилось. Несколько раз она находила в почтовом ящике бумажки с нацарапанными стишками, где рифмовались слова «красив» и «стихи» («Пусть не очень я красив, но зато пишу стихи»), «любовь» с «вновь» («Я прошу, верни любовь, давай встретимся мы вновь») — и все в таком же духе. «Пуштожвон!» — повторяла тетя, и Штефица с ней соглашалась.
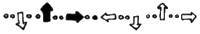
Второй появился почти сразу после Первого. И опять все произошло совсем случайно и как-то гадко. Преподаватель химии из школы. Его все звали «Собственно говоря», потому что каждое предложение он начинал с этих слов. Он обожал ставить опыты, любил многочисленные колбочки, пробирки, спиртовки, мензурки… Собственно говоря, провели мы этот опыт, собственно говоря, сделали мы тот эксперимент…
Штефица встретила его вновь на курсах машинописи. Он работал там секретарем. Был он еще более стеснительным, казался меньше ростом, был целиком погружен в себя. Он напоминал Штефице улитку. А потом был последний экзамен по машинописи и гулянка по этому поводу в ресторане. И Второй был там, весь сконфуженный, весь пунцовый. Он все посматривал на Штефицу и в конце вечера предложил подвезти домой. Но, разумеется, сначала зайти к нему на чашечку кофе. Штефица не помнила, как дошло до этого, помнила лишь, что приняла приглашение, собственно говоря, пошла просто так и, собственно говоря, со Вторым. Почему — и сама не знала. Второй казался ей таким несчастным, таким неловким, что Штефице хотелось непременно ему помочь. В конце он сказал: «Штефица, простите, но я, собственно говоря, совершил дефлорацию» — и уснул. Штефица ответила: «Ладно». Нужно ему верить, думала она. Второй спал, обняв Штефицу, и при этом ее ухо было очень неудобно прижато к часам на его руке. В абсолютной ночной тишине Штефица как загипнотизированная слушала навязчивое тиканье часов. Потом послышалось щебетание одной птички, затем другой… И Штефице показалось, что именно в эти минуты — когда в ухе стучали часы, а за окном чирикали птички — в этом кристально чистом утреннем кусочке времени она стала женщиной. Независимо от Первого и от Второго. Как-то сама по себе.
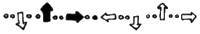
От Первого остался шум сгоревшего телевизора, от Второго — тиканье часов. И все. И больше ничего. Остальное стерлось, смешалось. Как каша! — подумала Штефица и тут вспомнила, что давно остыл рис и нужно включить плиту и разогреть его, что уже стемнело и она, кстати, не отказалась бы перекусить.