— Образованнейший человек эта Марья Юрьевна. Она знала прошлый век как никто. Однажды мы гуляли с ней по Донскому монастырю. Она показывала на могильные плиты так, словно под ними лежали ее знакомые. «Вот здесь Иван Иваныч, премилый господин, он спас того-то и облагодетельствовал семью такого-то, большой любитель света ... А тут Николай Петрович, он женился на княгине такой-то, состоял в родстве с декабристами... А здесь удивительный князь. Ничем особенным не отличался, но умер интересно. Выпил бокал вина — и готово!» Это надо слышать! Она была у нас консультантом по эпохе. Специально пригласили, когда ставили «Декабристов» Шапорина. Я пел Рылеева. Труднейшая партия... Особенно в последнем акте.
— Эк, куда тебя понесло,— нахмурившись, перебил Мокей Авдеевич,— скачешь с пятого на десятое.
— Вот именно,— спохватился Маэстро.— Так вот. Марья Юрьевна Барановская была секретарем комиссии по эксгумации... Ну и работка, доложу вам,— дежурить при гробах. Переносить их с одного кладбища на другое.
— Кого переносили, а кого и нет,— уточнил Мокей Авдеевич, не позволяя чересчур вольно обращаться с фактами.
— Ну это как водится... От широты душевной кое-кого с землей сровняли... Как мусор... У нас ведь недолго.
— Наломали дров, накуролесили, а теперь хватились... Дуралеи... Вот когда кощунство-то началось.
— Вскрывали могилы Гоголя, Языкова, Веневитинова...
— Извини! Веневитинов Дмитрий Владимирович покоился в Симоновском монастыре,— снова уточнил Мокей Авдеевич.
— Да, но перстень на его руке был из раскопок Геркуланума! — взорвался Маэстро, не выдержав очередной придирки, и, раздраженный, продолжал настаивать: — И подарен был Зинаидой Волконской!
П. Д. Барановский, Г, О. Чириков, Северная экспедиция, двадцатые годы
Дом в Новодевичьем монастыре, где жили Барановские
В коллаже А. Добрицына использована работа Н. Нестеровой «Маски».
Это Марья Юрьевна позже передала его в Литературный музей. И она записала, что корни березы обвили сердце поэта. И она сказала, что зубы у него были нетронуты и белы как снег. Я тебе больше скажу — и знай, что об этом ты ни от кого не услышишь,— Марья Юрьевна поцеловала прах Веневитинова в лоб и мысленно прочитала его стихи.
На сей раз Мокей Авдеевич промолчал, и Маэстро, остывая, продолжал убеждать:
— Да-а! Она доверила мне с глазу на глаз. Поразительно! Откуда у двадцатилетнего юноши такой дар предвидения? Он как будто чувствовал, что произойдет через сто лет.
— Не напомнишь, а? — смиренно попросил Мокей Авдеевич.— Проку-то гневаться.
— Не надо бы тебя баловать... Ну, ладно... Я незлопамятен.— И Маэстро остановился под деревом, тень от которого сетью лежала на снегу:
О, если встретишь ты его
С раздумьем на челе суровом...
В это время ветер рванул крону, тень ее закачалась под ногами, придавая нашей неподвижности иллюзию движения. Мы как бы зашатались, теряя опору, подвластные заклинанию:
Пройди без шума близ него,
Не нарушай холодным словом
Его священных тихих снов
И молви: это сын богов,
Любимец муз и вдохновенья.
Он замолчал и первый вышел из колдовского переплетенья теней. Вслед за ним шагнули и мы, с облегчением ощутив твердую почву.
— Но вот дошла очередь до Хомякова,— продолжил Маэстро.— Идеолог славянофильства, интереснейшая личность... Подняли гроб, открыли, а на усопшем целехонькие сапоги... В тридцатые-то годы! А вокруг беспризорники-колонисты, они жили в монастыре. Как они накинутся на эти сапоги! Если бы не Марья Юрьевна, разули бы. А пока она отбивала Хомякова, кто-то отрезал от Гоголя кусок сюртука.
— Вроде даже и берцовую кость прихватил,— добавил Мокей Авдеевич, мертвея от собственных слов.— Вроде Гоголь потом стал являться мерзавцу во сне и требовать кость. И за две недели извел. Безо времени. Покарал похитителя.
Мы шли длинной малолюдной улицей, выходящей на суматошную вокзальную площадь,— там, в сиянье огней, клубился холодный неоновый дым.
Перед нами скелетными рывками мотало на деревьях перебитые ветви. Повисшие, они напоминали рукокрылые существа — каких-нибудь летучих мышей или вампиров.
Огороженная заборами, кирпично-каменно-цементно-бетонная улица казалась бесконечной. И было удивительно, что мы достигли ее конца.
Над последней глухой стеной трещали и хлопали от ветра разноцветные флаги. Флагштоки, раскачиваясь в железных опорах, душераздирающе скрежетали. От этих звуков пробегал мороз по коже, так что не радовали и веселые цвета флагов. Призраки потревоженных писателей подавали голоса, слетаясь на зов Маэстро. Жу-у-утко! Холодно-о-о! Тя-а-ажко! Им вторило оцинкованное дребезжание водосточной трубы, оборванной у тротуара и Держащей на волоске свой болтающийся позвонок. На нем трепетала самодельная бахрома объявлений: «Куплю!», «Продам!», «Сдаю!».
Сквозь это шумовое светопредставление и свист ветра Мокей Авдеевич предрекал:
— Бесовское наваждение! И нигде не спасешься! Помяните мое слово, еще и не то будет.
Однако «не то будет» случилось много позднее, и сразу на все государство, да что там, на целый мир-, а тогда...
Многие страсти
Как приятно из одного прекрасного настоящего попасть в другое и снова увидеть своих на Новом Ар-- бате, у церкви Симеона Столпника.
— Как летит время, как время-то летит! Ждал вас, ходил вокруг церкви, а видел Барановского. Петр Дмитриевич, Марья Юрьевна, какие люди!
— Достойнейшие... А жили... На раскладушке... В Новодевичьем, в келье — жэковской коммуналке.
— Детка,— строго одернул старца Маэстро,— ты занимаешься дегероизацией. Вот что значит жить в эпоху, когда все помешались на разоблачениях. Что за манеры? Что у тебя в голове?
Больше трансцендентного! Светлой памяти Марья Юрьевна Барановская говаривала: «Учитесь отходчивости у природы». А уж она- то находилась в Бутырки, набедовала там в очередях. Я ведь про Ярославль говорю. Помнишь, как Петр Дмитриевич забрался на колокольню центрального собора и сказал: «Взрывайте вместе со мной!» И спас, черт возьми! Вот человек! А сейчас?! Кто сейчас на такое способен?! Звезды на небе и те другие. Обозначилось созвездие Водолея, которое никогда не было видно. Что уж говорить про людей! Мелкота... А в Москве? Послал телеграмму Сталину! Додуматься надо. Василий Блаженный уцелел, а сам... Куда ворон костей не заносит... Пять лет возил тачку.
— Восемь,— уточнил Мокей Авдее вич.
— Что ты заладил: восемь да восемь?! — взвился Маэстро.— Как будто цифр больше нет! — И продолжил перечисление подвигов Барановского.— А Параскева Пятница в Чернигове! Это же страсти... Страсти по Матфею. А помнишь, когда Барановский восстанавливал Крутицкое подворье, как ты таскал ему кирпичи со всей Москвы? Как снесут памятник архитектуры, Миклуша туг как тут... А старинный кирпич — это вам не теперешний. Ни много ни мало восемь килограммов! На себе возил сей государственный прах. Можете представить, как общественное остроумие поддерживало его на всех перевальных пунктах. Однажды на Собачьей площадке рушили особняк, и Мика явился за маркированными кирпичами. Как водится, на ночь глядя. Тут Миклушу заприметил дворник. И Маэстро, потирая руки, преображается в старого испытанного осведомителя. Он даже воздух вынюхивает:
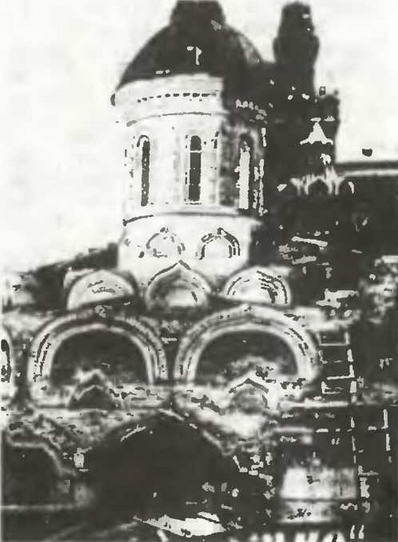
— Ага-а. Подозрительная темная личность. На развалинах... Видать, кладоискатель. Али буржуй недобитый, наследник кровопийских капиталов. Отщепенец, вражина, шпион. Ну я те покажу, как обирать рабочую власть! Что в таких случаях делает средний российский обыватель?