Этот коридор на первом этаже так и прозвали – «подлодка». Низкие потолки там гнетуще давили своей близостью к тому, кто шел под ними, заставляя порой инстинктивно пригибаться в тех местах, где поперек были проложены балки. Стального цвета пластины скрывали коммуникации и служили норами любопытным хвостатым обитателям – крысам. Металл неприятно отсвечивал ржаво-тусклым блеском. Куча закрытых входов-выходов наводила тоску. В одной из четырех групп рядом с «подлодкой» и прошло мое отрочество.
Лодкой здание было только внутри. Снаружи – просто детский сад, но без привычных ярких горок, качелей, грибов-песочниц. Громоздкие некрасивые решетки охраняли окна кабинета директора и изолятора. В первом случае они несли службу стального стража ценностей от посторонних глаз и опытных рук. Во втором – оберегали заболевших и помещенных на карантин от желания пойти поболеть где-нибудь на свободе. Таковых обычно не находилось. Да и за провинности в изолятор редко кого поселяли. Как-то водворили туда Оксану, девицу тринадцати лет, влюбившуюся, как на грех, в какого-то взрослого дяденьку. Дяденьке пригрозили милицией, а Оксану отправили в изолятор, чтобы она остыла там от любви. Утром в изоляторе Оксанки не оказалось. Ей каким-то чудом удалось протиснуть свою весьма пышную фигуру между прутьями. Разыскивать долго не пришлось. Возлюбленный привез Оксану лично, заверив, что «невиноватый он – она сама пришла». Оксанка плакала. Наверное, от предательства.
От внешнего мира нас отделял решетчатый забор, в котором отсутствовали некоторые секции. Кто и зачем их снял, неизвестно. Ворота закрывались «на ночь» каждый вечер с завидной регулярностью, но такое действо было, естественно, просто символичным. Все бегунки (так называли тех, кто регулярно самостоятельно уходил на свободу) по какой-то традиции бежали ночью, и замок на воротах в силу естественных причин никого остановить не мог. Впрочем, даже если бы все секции забора были на месте, он все равно бы не помог. Закрытые ворота совсем не мешали дворовым ребятам приходить и петь под гитару у нас под окнами. Иногда им вместо цветов от восхищенных поклонниц на голову падали пакеты с водой. И тогда песнопения прекращались.
Тишину ночи порой нарушали шаги мальчишек, пробирающихся к девчонкам. У ночного воспитателя был выбор: находиться либо в старшей мальчишеской, либо в старшей девчоночьей группе. Караулил, одним словом. Но влюбленных у нас было принято защищать от надзора воспитателей, и для них всегда находились заповедные для «посторонних», укромные уголки.
Сначала в нашем детском доме хотели собрать элиту сиротского люда – детей одаренных, способных. Я начал рисовать раньше, чем говорить, если верить все той же Нине Павловне, самоотверженно защищавшей оставшихся без родителей детей. Но то ли не успели выявить всех одаренных, то ли просто некуда было распределять, и детский дом «с уклоном в искусство» открыли просто как обычный детский дом. Конечно, способных было много среди нас. Это неправда, что в детских домах живут в основном отсталые и малоразвитые. Тут, пожалуй, стоит написать о Катрин.
Катя. Просто Катя
Катю привезли в детский дом вместе с младшим братом. Таких ребят, как она, называли «социальные сироты»: мать вроде бы и есть, а вроде бы и нет. О своей семье Катя вслух не вспоминала ни разу. «Лишенцев» (так между собой органы опеки именуют детей, чьи родители лишены родительских прав) в детдоме больше, чем отказников, таких, как я. Она не говорила ни слова о доме, о той прежней жизни. Катерина, как закрытая шкатулка, все секреты хранила внутри. Воспиталки Катю любили, она была «спортсменка, комсомолка и просто хороший человек». Больше всего на свете Катька любила брата. Разговаривала она с ним тоном скорее не старшей сестры, а матери, строгой, внимательной и любящей. Выловив брательника из кустов, подпирающих фасад дома, Катька вела его в группу, не обращая внимания на слабые протесты. Витька упирался, но больше для виду. Ему нравилось, что сестра его опекает, нравилось, что именно она делает с ним уроки.
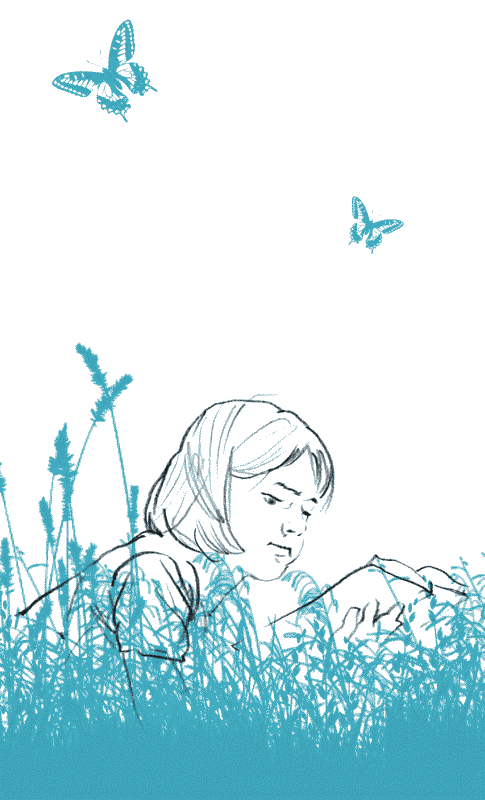
Пока другие томятся в классной и делают домашнюю работу с воспитателями, он смотрит, как ребята из старших групп играют в футбол, и бегает за вылетающим за забор мячом. Единственный мальчишка с такой привилегией в младшей группе. Высокая, стройная, с отточенными движениями, Катрин успевала переделать кучу дел: кружки, секция карате, обязанности старосты группы. Она была признанным авторитетом среди ровесниц и вызывала уважение как равный среди взрослых. У самой Катрин был пунктик – учиться на «отлично». Кареглазую девчонку с каре, всегда что-то читающую, можно было часто увидеть после отбоя в классной комнате, откуда ее отправляли спать ночные воспитатели.
Угораздило как-то Катю нахватать троек. Тяжело ей давался английский. А тут еще школьная англичанка заявила, что не будет дополнительно с ней заниматься. Дескать, изучала немецкий, а тут ни с того ни с сего перевелась в другой класс, с английским уклоном. «Ни с того ни с сего» было подано воспитателями. Может, в их головах мелькнуло видение будущего, ведь через полтора года Катрин уехала в Штаты. На ПМЖ[1]. Воспитатели в Катиной группе подобрались сплошь «немцы». Так бы и плавать ей в тройках, если бы не новый социолог – переводчик по специальности.
Американцы
Американцы нагрянули к нам в середине весны. Наш город в это время радовал жителей многочисленными лужами в дырках асфальта, кучей мусора, выползшего из-под грязно-серой кромки сугробов, невзрачными перезимовавшими домами и букетами подснежников на рынках в руках у старушек. В нашем весеннем городе группа веселых американцев смотрелась совершенно чуждо – как орхидея на помойке. Но нельзя сказать, что их приезд потряс основы нашего бытия. Мы к гостям были почти привыкшие – иностранцами, как таковыми, нас не удивишь. До приезда этих американцев нас навещали немцы.
Немецкие господа, как оказалось, народ любопытный. Ходили, рассматривали всё с немецкой дотошностью. В нашей группе, в углу на лестничном пролете, стояла коряга – большая такая, покрытая лаком. Стояла она не просто так, а прикрывала своими сучковатыми лапками щербатый угол. Об нее вечно все спотыкались, особенно вечерами, когда выключали свет. Вспоминали при этом и чертову бабушку, и мать вашу – видимо, мать ВД (Веры Дмитриевны). Пару раз пробовали ее выкинуть, но она снова появлялась на прежнем месте.
– Какого лешего?.. Кто ее обратно принес?!
Судя по голосу, на корягу напоролась Лена, наша воспитательница. Они вчера вдвоем с ночной нянечкой тайно от ВД приговорили деревяшку к изгнанию в мусорный контейнер. Да только хранительница коряги принесла свою любимицу обратно, узрев выпирающее из мусорного бака лесное чудище. ВД прозвали у нас Водянкой. Вряд ли придумавший прозвище знал, что водянка – это весьма и весьма нехорошая штука. Вера Дмитриевна была роста маленького, суховатая, как та коряга. Но погоняло приклеилось к ней намертво.
Так вот, что немцы… Бюргеры остановились на лестнице, лопоча что-то по-своему. Переводчиком была наша новенькая социолог. Пока немцы лопотали на родном языке промеж собой, она демократично помалкивала. Гостям, по русскому обычаю, не только соль, но и хлеб поднесли. Точнее, пирог яблочный. Гости надарили нам шариковых авторучек. Алаверды, так сказать, за знакомство и обмен бесценным опытом. И всё удивлялись: «Вы, русские, такие бедные, а любите угощать. У нас гостей встречают скромно». Вот и пойми их: то ли рады гостеприимству, то ли осуждают.
– Лен Ванна, а что там немчура все гуторила на своем?