Здесь развитие образа идет в трех строфах, а истолкование дается в четвертой, замыкающейся блестящей афористической строкой. Композиция сонета, повторяем, более свободна, чем его архитектоника, и каждый поэт — не только Пушкин! — властен в его строгих рамках распределять содержание по-своему, держа, однако, в памяти, что теза, антитеза и разрешение составляют главную прелесть этой формы.
Композиция прозаических произведений бывает и проста и сложна, в зависимости от цели, которую ставит перед собой автор. Распределение и акцентирование материала, выделение в нем основных и второстепенных мотивов зависит целиком от писателя и характеризует степень художественной правды, которую он способен выразить.
Современный роман смело использует возможности композиции, перемещая действие из настоящего в прошедшее и будущее. Параллельность действия, развивающегося в разных временных потоках, помогает уяснить причинную и психологическую связь между мыслями и поступками героев. В руках опытного мастера этот прием действен и впечатляющ, но у подражателей и дилетантов он вносит в роман сумбур и неразбериху.
Архитектоника и композиция имеют свои соответствия в сюжете и фабуле, составляющих их динамическую основу. Сюжет — последовательное изложение событий, ставших предметом внимания рассказчика. Фабула раскрывает эти события в частностях и в деталях и дает им мотивировку. Сюжет — ствол, фабула — ветви и листья. Опознать клен или березу можно по одному листу, не дотрагиваясь до ствола. Вы схватываете сюжет в целом, лишь перебрав на ощупь фабульные листья.
Вы встретили человека, которого не видели много лет. С тех пор он постарел и опустился или, наоборот, изменился к лучшему и стал преуспевать. При встрече он рассказал вам о себе, а вы поделились с ним своими новостями. Таков сюжет небольшого происшествия, случившегося с вами поутру по дороге на службу.
Возвращаясь вечером домой, вы уже обдумали, как поинтереснее рассказать этот случай близким. «Ну-с, — начнете вы, — знаете ли, кого я встретил? Ни за что не угадаете! А что он мне рассказал! Оказывается, он сейчас работает…» И вы долго еще томите своих слушателей, пока не выпаливаете: это оказался Иван Иваныч Пирожков собственной персоной. Такова фабула, разработанная вами на основе сюжета. Вы изменили последовательность событий, так как на самом деле узнали Пирожкова сразу, а домашним сообщили об этом под конец. Вы детализировали описание его внешности и костюма. Вы, наконец, объяснили и мотивировали (хотя бы в виде догадок) те биографические общности, которые он успел сообщить вам в течение десяти минут.
Архитектоника и сюжет соотносятся с композицией и фабулой, как общий план с его разработкой. Внутри строгой формы сонета поэт распределяет материал согласно своему убеждению, вкусу, художественной задаче — это соотношение архитектоники и композиции. В рамках сюжета писатель разрабатывает фабулу: он может нарушать и изменять последовательность событий, замедлять и ускорять действие, акцентировать те или иные частности или общности. И если сюжет — это структурная сетка архитектоники, то фабула — пружина композиции.
И сюжет и фабула выражают действие, и мы вначале не случайно указали на их динамичность. Еще древние авторы справедливо считали, что действие должно иметь начало, середину и конец, чтобы читатель или зритель мог составить о нем верное представление. Классическим началом сюжета является завязка — событие, заставляющее героев произведения предпринимать определенные поступки, то есть действовать. Завязке может предшествовать экспозиция, рассказ об обстановке, в которой предстоит действовать героям. Но писатели часто обходятся без нее, начиная прямо с завязки. Так, в гоголевском «Ревизоре» первая сцена, где городничий объявляет собравшимся чиновникам о полученном письме, содержащем грозное известие: к нам едет ревизор! — и является завязкой пьесы. Затем, естественно, происходит развитие действия, и тут огромная роль принадлежит фабуле, разрабатывающей все его частности и детали. В приключенческих повестях и рассказах фабуле принадлежит часто решающая роль. В «Баскервильской собаке» Конан-Дойля, в «Трех мушкетерах» Дюма-отца, в «Одиссее капитана Блада» Саббатини вы с напряженным интересом следите за приключениями героев именно благодаря умело разработанной фабуле. Развитие действия приводит к кульминации — высшей точке его напряжения, которое выражается в решающем столкновении противоположных сил повествования. В той же «Баскервильской собаке» такой кульминацией является эффектный эпизод, когда фосфоресцирующее чудовище гонится за молодым Баскервилем. За кульминацией следует развязка, в которой объясняется исход события, положенного в основу произведения.
В старинных произведениях начальные и конечные элементы сюжета выделялись в отдельные части, носившие названия пролога и эпилога. В прозу и поэзию эти термины пришли из драмы. Еврипид в прологах к своим трагедиям дает конспективное изложение событий, предшествующих началу действия. В новое время пролог открывал пьесы Шекспира, Мольера, Шиллера. В прозаических произведениях пролог часто стал играть роль авторского предуведомления о целях и задачах романа — таков, например, пролог к «Дон-Кихоту» Сервантеса. Но еще чаще в прологе давалась развернутая экспозиция к произведению. Огромный «Агасфер» Э. Сю предваряется, к примеру, соответствующе протяженным прологом.
Эпилог сообщает о судьбе действующих лиц, получающей завершение иногда много спустя после окончания действия. Это как бы развязка развязки. Вам, конечно, памятен эпилог «Братьев Карамазовых» Достоевского и носящие характер эпилогов заключительные главы «Накануне» и «Отцов и детей» Тургенева.
Сюжет тесно связан с содержанием. Попытки разорвать их связь представляются мне искусственными. Некоторые ситуации повторяются без конца, но зато и варьируются бесконечно, в зависимости от исторических условий, социальной среды, национальных различий характеров героев и т. д. и т. п. Знаменитый «треугольник» (он, она и третий лишний или нелишний) проходит через всю мировую литературу, и вряд ли у кого возникнет мысль, что лермонтовская «Княжна Мери» сходна с шекспировским «Отелло» или с толстовской «Анной Карениной». Мотив «узнавания» чрезвычайно древен — он встречается уже в «Одиссее», без него не обходится ни один древний эпос. Но в знаменитом рассказе Мопассана «Порт», переведенном и обработанном Л. Н. Толстым, этот мотив развертывается так, что никаких аналогии с «Одиссеей» или «Нибелунгами» не возникает даже у искушенного литературоведа.
В нескольких словах сюжет мопассановского рассказа можно изложить так: матрос, возвратившийся из плаванья, заходит в притон, где сходится с молоденькой проституткой. Она его выспрашивает, не встречал ли он в своих скитаниях по свету корабль «Богородица ветров», а на нем некоего Селестена Дюкло. После короткого разговора обнаруживается, что матрос и проститутка родные брат и сестра. Рассказ, поразительный по силе, основывается на впечатляющем сюжете, который целиком определяется условиями места и времени. Перенесенный в другую обстановку и в другую эпоху, он неизбежно бы должен был приобрести иные черты, и впечатляемость его тоже была бы иной.
К распространенным сюжетным линиям относится путешествие героев, помогающее включить в рассказ множество эпизодов со множеством действующих лиц, что, в свою очередь, способствует всестороннему охвату действительности. «Дон-Кихот» Сервантеса и «Пикквикский клуб» Диккенса, «Жиль Блаз» Лесажа и «Мертвые души» Гоголя — примеры знаменитых произведений, включающих в себя этот мотив.
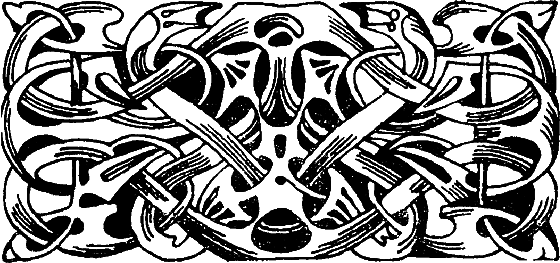
Можно назвать и разобрать еще немало таких линий или мотивов, известных людям с глубокой древности и доживших до наших дней. По сути, почти любую ситуацию можно присоединить к одному из них. И тогда будут перекинуты диковинные мостики от Сэлинджера к Диккенсу, от Ионеско к Аристофану, от Булгакова к Гёте, от Хемингуэя к Маргарите Наваррской. Но искать такие соответствия — труд напрасный и неблагодарный. Сюжет, повторяем, неотделим от содержания, и функции его в газетной хронике, сообщающей о самоубийстве великосветской дамы, и в романе Льва Толстого совершенно различны. Зерно давнего конфликта, обнаруживаемое в жалостной частушке: