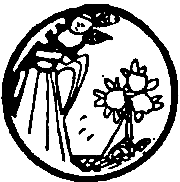— Отзовись! Или ты не хочешь? Я люблю тебя, люблю тебя.
О той же хитрой усмешкой он приблизил расширившиеся глаза к самому лицу Зиночки и шептал:
— Я люблю тебя. Ты не хочешь говорить, но ты улыбаешься, я это вижу. Я люблю тебя, люблю, люблю.
Он крепче прижал к себе мягкое, безвольное тело, своей безжизненной податливостью будившее дикую страсть, ломал руки и беззвучно шептал, сохранив от человека одну способность лгать:
— Я люблю тебя. Мы никому не скажем, и никто не узнает. И я женюсь на тебе, завтра, когда хочешь. Я люблю тебя. Я поцелую тебя, и ты мне ответишь — хорошо? Зиночка…
И с силой он прижался к ее губам, чувствуя, как зубы вдавливаются в тело, и в боли и крепости поцелуя теряя последние проблески мысли. Ему показалось, что губы девушки дрогнули. На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну.
И черная бездна поглотила его.
Б. К. ЗАЙЦЕВ
СМЕРТЬ
Когда в комнате выставили рамы и Павел Антонин вдохнул апрельский воздух, увидел бледное небо, воробьев, слабую зелень в садике, он понял, что это его последняя весна. Мысль о конце не испугала его; она только яснее определила его положение.
— Какой воздух! сказал он жене. — Как хорошо! Ты доставила мне большое удовольствие.
— Не холодно? — спросила Надежда Васильевна. Теперь во всех ее словах и мыслях было одно: как бы не повредить Павлу Антонычу, как бы помочь.
— Нет, — он вздохнул глубоко. — Легче. Дышать свободнее.
Надежда Васильевна поцеловала его в лоб и вышла. Целый день он был покоен, молчал, но задыхался. Все время смотрел в садик и к вечеру попросил посыпать на балконе зерен для воробьев. При этом улыбнулся, сказал:
— Весело на них смотреть.
Следующий день и вся неделя прошли спокойно. Казалось даже, что зловещие отеки уменьшаются. Но сам Павел Антоныч изменился. Он часами глядел па воробьев, не читал, и в его глазах, к которым так привыкла Надежда Васильевна, она видела упорные, тайные мысли.
— Павел Антоныч, — спросила она раз, — о чем ты думаешь? Отчего ты мне ничего не скажешь?
— О чем думаю?
Он засмеялся.
— О духовном завещании.
— Зачем ты говоришь так? Павел Антоныч!
Он стал серьезнее.
— У меня, Надежда, есть с тобой разговор.
Но потому ли, что не додумал до конца или доктор помешал, он отложил объяснение.
Наконец, в первых числах мая, когда сад был уже в зелени, весело звонили в монастыре и Павла Антоныча выносили на балкон, он сказал жене:
— Прятаться нечего, Надежда. Очень приятно жить весной, но… ты понимаешь, одним словом. Так вот. — Он перевел дыхание. — Ты любила меня очень. Очень.
— Вспомни, — ответила она. Ее голос дрогнул.
— Да, я тебя много мучил. Это несомненно. Простишь ли ты меня?
— Ах, не говори ты так! Не надо! Бог с тобой, в чем мне тебя прощать.
Надежда Васильевна стучала рукой по перилам, ее седоватые волосы вздрагивали под наколкой.
— Может быть, и простишь, — говорил Павел Антоныч так же тихо и медленно. — Но сейчас о другом идет речь.
Он вздохнул, поправился, закурил.
— Ты знаешь, есть женщина, которую я любил.
— Знаю.
— У меня есть дочь, ты тоже знаешь.
— Знаю.
— Вот. И вы — то есть ты и Анна Петровна — всегда ненавидели друг друга.
— Я слушаю. Слушаю, буду слушать все, что ты ни скажешь мне.
Надежда Васильевна держалась за перила крепко, стиснув пальцы.
— Так как я скоро умру, я прошу у тебя еще милости. Жертвы, что ли. И от нее также. Вот, я написал ей.
Он показал конверт.
— После меня дам нечего будет делить. Много мы страдали и при жизни. Неужели и тогда вы будете ненавидеть ДРУГ друга?
— Чего же ты хочешь?
— Надежда, примирения. И прощения. Чтобы я покойно умер.
Надежда Васильевна не сразу ответила.
— Мы должны упасть друг другу в объятья? — Голос ее был глух и сдавлен.
— Нет. Отпустите взаимно и мне. Чтоб она не проклинала этого дома, а ты… дочь не оттолкнула бы.
Надежда Васильевна молчала.
— Дочь? — сказала она. — Твоя дочь могла быть только моей. Других твоих дочерей нет.
— Надежда, — ответил Павел Антоныч — лицо его покрылось бледностью. — Я очень пред тобой виноват, очень. Но… сделай так. Ради Бога.
Она стояла, как каменная. Что-то вспыхнуло в ее глазах, точно отблески. Но она владела собой.
— Павел Антоныч, я боюсь, что тебе надует.
И она закрыла балконную дверь. Выходя из комнаты, прибавила:
— Об этом мы не будем больше говорить.
Тогда Павел Антоныч замолчал. Сначала он лежал неподвижно, потом заплакал — едкими старческими слезами. Теперь ему казалось, что уж подлинно он один, смертельно один в этом сияющем весеннем мире. Захотелось быть ребенком, чтобы мать взяла на руки, ласкала беззаботно. Но за ним стояла жизнь, теперь прожитая, так ужасно неудавшаяся. Что наделал он в ней? Двух женщин измучил, да и сам…
Надежда Васильевна вошла снова. Она была уже другою — старым другом, врачом, сиделкой. Но на Павла Антоныча этот разговор произвел длительное и тяжелое впечатление. Жену он знал: если в такую минуту ей нечего было сказать, значит, вражда сидела в ней крепко.
— Покоряюсь, — сказал он себе, — были ошибки, грех, теперь это давит; я не увижу ни Анны Петровны, ни Наташи. Покоряюсь.
Вспоминал он также и о своем законном сыне, Андрее. Он был студентом, в южном университете.
Павлу Антонычу хотелось повидать его.
— Отчего ты пе напишешь Андрюше? — сказал он жене. — Пусть бы приехал.
— У него экзамены, зачем его тревожить. Он подумает Бог знает что.
«Да ведь я все-таки умру!» — хотел сказать Павел Антоныч, но не сказал, только вздохнул.
— Впрочем, если хочешь, я могу написать.
Павлу Антонычу стало особенно плохо в середине мая; как ни выставляли его в садик, как он ни старался набирать в себя весны, дышать было все труднее. По ночам он не спал, заливаемый водянкой, и жена в эти одинокие ночи до изнеможения растирала ему грудь, спину. Наконец, ему сделали горячую воздушную ванну. Это было так мучительно, что Павел Антоныч собирал все силы, чтобы не кричать. Когда ушли доктора, он отвернулся и, стараясь скрыть от жены слезы, сказал:
— Зачем они меня мучают?
Это утро он страдал жестоко. Как никогда терзала его история его любви, томила смерть. Едва говоря, он попросил нарвать сирени. Сирень была свежая, бледно-фиолетовая, с капельками росы. Вдыхая ее запах, он слабыми пальцами трогал цветы. И улыбнулся горько, вспомнив, что никогда не мог найти в сирени пяти лепестков — счастья. Потом, закрыв глаза, стал думать о Боге. В это время он забыл о своей жизни, товарищах, врагах; ему казалось, Бог есть, и эта сирень, и вообще прекрасные цветы, прекрасная любовь суть именно свидетельства и проявления Бога. Вспомнив же о женщинах, которых любил, он подумал, что, быть может, самой дивной, неземной любви, о которой мечтал в юности, он не знал вовсе. Тогда он снова взял сирень, поцеловал ее и мысленно просил Бога, чтобы Он скорее избавил его от этой несчастной, страдальческой жизни.
Вечером он написал сыну. В этом письме было такое место: «Повидать тебя, Андрей, мне бы хотелось. Мы давно не видались. Может быть, ты забыл меня, по я тебя помню. Ты мне сын, ты был ребенком, черноголовым мальчиком, в то время, когда мне жилось легче, чем сейчас. Теперь же, кроме тяжелой болезни, которая неотвратима, я изнемогаю от ошибок моей жизни. Дело в том, что, кроме твоей матери, я до последнего времени был близок с другой женщиной, Анной Петровной Горяиновой, от которой у меня есть дочь Наташа. Надежда Васильевна знает об этом. Мне так трудно сейчас потому, что она не помирилась, видимо, и пе помирится с Анной Петровной, на что имеет, конечно, веские основания. И вообще вся вина здесь на мне. Можешь и ты прибавить свое порицание, но ты еще молод. Желаю тебе ясной и светлой жизни; помни, друг мой, что величайшее счастье, как и величайшее горе человека, есть любовь, и постарайся создать себе жизнь, достойнее отцовской. Меня же, если можешь, пожалей; если на каплю любишь — помоги: не отталкивай после моей смерти Анну, поддержи Наташу — все же она тебе сестра».