С наступлением зимы новая и неожиданная напасть объявилась — мороз. Никогда в жизни я во дворце нашем не мерз, скорее уж сетовал на жару нестерпимую, а тут вдруг задрожал, да так, что никакие шубы не спасали. Николай из нескольких доспехов металлических смастерил некое подобие печки с выходящей в окно трубой, мы ее так и называли — рыцарка и проводили у ее раскаленных боков целые дни. Но и дров она сжирала преизрядно, точно как рыцарь за столом, а дров-то как раз и не было. Это на Руси-то! Близок локоть, да не укусишь, шумят леса вековые вокруг Москвы, да ни веточки не обломишь. Вот и жгли, что под руку попадется, сначала заборы по досточкам размели, потом все деревья вырубили, затем пришел черед построек разных, под конец в ход пошла мебель, столы да лавки.
От холода еще больше есть хотелось и не какого-нибудь варева из муки или крупы, а непременно мяса. Я так исстрадался, что по ночам мне стали сниться ягнята, козлята, поросята, то вдруг зайцы запрыгают перед глазами, то гуси клином пролетят, а однажды явилась щука и сказала человеческим голосом: «Исполню, старче, все...» — более ничего не успела, потому что я ее схватил — и в котел! Что уж там снилось Ванюше, я не знаю, потому что никакой живности съедобной он никогда в глаза не видел, но и он часто просыпался по ночам и разражался негодующим плачем, раздирая мне уши и сердце. Николай с Парашкой претерпевали все эти мучения много легче, вполне удовлетворяясь пищей грубой, этим лишний раз подтверждая, что организм у простолюдинов устроен совсем не так, как у нас, великих князей.
Пост у нас был строгий и непрерывный, поэтому Великий пост пролетел незаметно, но светлый праздник Воскресения Христова я пропустить не мог, следуя обычаю, захотелось мне уснастить стол пасхальный чем-нибудь вкусненьким, сиречь
мясом. Николай с Парашкой отправились на торг. Вас, наверно, удивляет, какой торг может быть в сих обстоятельствах стесненных, но так уж устроен человек, что страсть к наживе в нем неизбывна, из всех видов деятельности человеческой торговля умирает последней, вместе с надеждой. Вернулись товарищи мои по несчастью не скоро.
— Ой, что делается! — воскликнула с порога Парашка. — Мышь — золотой!
— А мыши жирные? — поинтересовался я.
— Какой! — откликнулся Николай. — Тощие! Им ведь тоже есть нечего!
— Зато вороны мясистые! — встряла Парашка. — Всего-то по пять золотых.
Я скривился — вестимо, от чего воронье жиреет. Я ими брезговал.
— Предлагали еще собаку невеликую, за пятнадцать, — сказал Николай, но я вновь скривился, он махнул рукой, дескать, понимаю, понимаю, и продолжил: — Вот, кошку сторговали, за восемь.
Я улыбнулся счастливо, за время сидения нашего я уже имел случай убедиться, что кошка, умело приготовленная, мало чем по вкусу от зайца отличается, если вкус этот успел под-забыться.
— Сегодня мясной торг богатый, — вновь вклинилась Парашка, — головы человеческие идут по три золотых, ноги по колено всего-то по два, филейные части, конечно, подороже.
—Да что ты такое говоришь! — воскликнул я, содрогаясь от омерзения.
— А что? — удивилась Парашка. — Как есть, так и доношу.
— Ляхи, считайте, только человечинкой теперь и пробавляются, — добавил веско Николай, — сначала пленных перерезали, ныне и за своих принялись. Сказывают, надысь суд был в хоругви пана Леницкого, гайдуки его товарища своего умершего сварили и съели.
, — Какой еще суд! — возмутился я- — Повесить всех сквернавцев рядышком, и вся недолга!
— Да не о том суд-то, — сказал спокойно Николай, — родич
умершего жаловался, что у него было большее право съесть его, а гайдуки доказывали, что первейшее право у них, потому как они в одном строю с ним кровь свою проливали.
— И что же присудили? — спросил я с неожиданным интересом.
— А ничего, — ответил Николай, — пан Леницкий сбежал с судейского места, говорят, опасался, как бы недовольная сторона его самого не зажарила.
Да, вот вам и Европа! Варвары! Истинно говорю — вар-ва-ры! Креста на них нет!
— Ты, Парашка, того, более со двора не ходи, — приказал я.
— Это еще почему?—удивилась та. — Что со мной сделается?
— А то! — веско сказал я.
— Князь светлый верное слово молвил, — поддержал меня Николай, — нечего тебе перед ляхами телесами своими пышными трясти. Возьми в образец хоть Михаила Романова, его мамаша уж давно за порог не пускает.
— И это правильно, — заметил я с улыбкой, — сей юнош пухлый просто сам просится на вертел.
Николай с Парашкой залились смехом. Вот так весело кончился у нас тот день. Такие уж мы, русские люди, даже в самых горестных обстоятельствах найдем повод для шутки, хоть над самими собой, а непременно посмеемся. Тем и спасаемся. После молитвы, конечно.
* * *
Как же поляки выдержали осаду столь долгую и тягостную? Ведь было их от силы тысяч семь, если считать вместе с наемниками немецкими, против стотысячной рати русской. Что питало их доблесть, достойную братьев наших младших?
Во-первых, надежда. Что не оставит их в беде король Си-гизмунд. Помню, с каким воодушевлением услышали поляки весть о взятии Смоленска, наверно, половину пороха извели на всякие забавы огненные. Тем сильнее было разочарование, когда узнали они, что король армию распустил и отправится в Польшу почивать на лаврах. Сигизмунд шумно праздновал в Кракове свою победу, а поляки с тоской смотрели на первый снег, устилающий площади кремлевские. ■

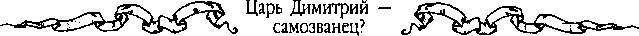
К весне же на помощь иссякающей надежде пришло отчаяние. Остервенение взаимное дошло до таких пределов, что поляки не рассчитывали на пощаду даже в случае сдачи добровольной. То же ведь и в Смоленске было, битва шла там до последнего человека, даже не ратника — жителя простого. К последнему штурму из стотысячного населения из-за болезней и обстрелов непрестанных осталось не более пяти тысяч, но и они продолжали сражаться на улицах, когда поляки ворвались в город. Женщины же, дети, старики немощные, числом в несколько сотен, затворились в храме Пресвятой Богородицы. Когда поляки проникли и туда, то архиепископ Сергий встретил их крестом животворным, видя, что это не останавливает насильников, Сергий дал знак взорвать храм вместе со всеми, там находившимися. Вот истинный пастырь, не чета Филарету!
Конечно, еще то полякам споспешествовало, что не было в ополчении русском единства. Да и каких действий решительных ждать от рати, которая сама себе воевод избирает, и не одного первого, а сразу троих — Ивана Заруцкого, князя Дмитрия Трубецкого и Прокопия Ляпунова. Я уж, кажется, говорил, что в деле воинском три головы, пусть даже умных и одинаково мыслящих, завсегда хуже одной. А если каждая из голов наособицу думает!.. Воеводы не столько сражались, сколько спорили о том, кто после их победы на престол Русский сядет. Тут только атаман Заруцкий сохранял верность наследнику законному, царевичу Ивану и матери его, царице Марине. Трубецкой же, хоть и шел под тем же стягом, с каждым днем вел себя все более лукаво, затевая какую-то собственную интригу. О Ляпунове и говорить нечего. В конце концов Заруцкий с Трубецким Ляпунова съели, нет-нет, не подумайте чего такого после рассказа моего недавнего, всего лишь зарезали они его чужими руками, честь по чести! Но это не скрепило единства, не улучшило положения царевича Ивана, скорее даже ухуд-щило. Русь, изнемогшая от Смуты, собирала новое ополчение, чтобы вычистить из пределов Земли Русской не только иноземцев, но всех смутьянов. Вместе с помоями этими народ русский готов был выплеснуть и младенца царственного.

Новое ополчение и спасло нас. Я в этом ни мгновения не сомневался, когда услышал, что во главе его народ русский поставил князя Дмитрия Пожарского, излечившегося от тяжких ран, полученных им во время битвы в горящей Москве. О, этот витязь честный не будет ни с кем вести переговоры келейные, не будет склонять слух свой к доводам ласкателей и наушников, не будет выторговывать себе выгоды личные, он пойдет прямо и открыто, готовый без колебаний исполнить наказ Земли Русской.