сердцем чувствовать надо. А у европейцев, даже и у поляков, разве ж есть сердце, у них заместо него абак счетный.
Почти всего добился Федор Романов из планов своих, крепкую кашу заварил,/вот только ноги не успел вовремя унести. Умные люди подсказали или сам Сигизмунд наконец догадался, кто на этой кухне главный кашевар, как бы то ни было, велел он, презрев все обычаи дедовские, взять послов великих под стражу и отправить их в Польшу, в заточение, Который уж год Федор там обретается, сейчас, сказывают, в замке Мальборг. Чай, несладко ему там приходится, не раз, поди, с умилением вспоминал келью свою монашескую в Анто-ниево-Сийской обители!
Но я опять сильно вперед забежал. Надо возвращаться в тот бесконечный год. Как начался он гибелью Димитрия, так и завершился уходом его призрака. Это непременно должно было случиться, игру, которую затеяла Марина, нельзя продолжать слишком долго, она и так ее затянула, на мой взгляд, но ей на месте было виднее, да и мудрено было улучить удобный момент. Так бывает в любой игре, когда дела с каждым ходом складываются все лучше и лучше и нет сил и воли остановиться.
Удача действительно повернулась лицом к партии Димитрия. Все земли Русские возмутились известием о входе польских отрядов в Москву, немало споспешествовали единению и слухи о том, что король Сигизмунд не хочет отпускать сына в Москву и сам навострился занять престол Русский. Из Калуги полетели грамоты с призывами сплотиться и изгнать всех иноземцев из державы Русской, пока же резать всех подряд, где ни попадутся. К такому призыву не остались равнодушны даже те города и земли, которые раньше хранили верность Василию Шуйскому. Суздаль, Владимир, Коломна, Нижний Новгород перешли на сторону Димитрия, то же и Казань, которая чутко уловила слова грамоты о том, что страны европейские нам чужды и союзнику нас один, извечный — турки.
Лишь один человек пошел против мнения народного — Богдан Бельский, сидевший в Казани воеводою. Не учел, видно, что народ не бояре, на расправу скор и лют. Вновь низвергли Бельского, на этот раз с башни высокой, и растерзали в клочки, добавив еще одно имя в мой предлинный синодик.
Уже собиралось ополчение, чтобы идти на Москву под флагом Димитрия и утвердить на престоле царя истинного. Больше медлить было не можно, чтобы не повторилась история с походом Болотникова. И вот в середине декабря, почти ровно через год после тушинской трагедии, по Руси пронеслась скорбная весть о гибели Димитрия. И обстоятельства дела, как их передавали, очень напоминали те, давние. Димитрий-де отправился на охоту, но не со свитой своей, а с какими-то татарами, которые, мстя за некие обиды давние, изрубили его в лесу саблями. В Калугу привезли лишь обезглавленное тело, убийцы же бесследно растворились в степи. Сделано все, что и говорить, топорно, но Марина, видно, над всем этим не долго думала, главное для нее было в другом. Когда жители калужские и все войско стояли в молчании скорбном перед обезображенным телом того, кого они почитали своим царем, перед ними явилась Марина с ребенком на руках.
— Великий князь и царь Всея Руси принял смерть мученическую от злодеев подосланных, — возвестила она твердым голосом, — но оставил он по себе на радость всему народу русскому сына и наследника законного, царевича Ивана! — И она подняла ребенка над толпой.
— Так вот почему ты, матушка-царица, в монастыре обреталась и свой ясный лик нам не казала! — воскликнули сметливые калужане, обрадованные счастливым известием.
— Да здравствует царь Иван Димитриевич! — браво гаркнули казаки.
— Многая лета Месяцу Ясному! — подхватили все остальные, опускаясь на колени перед новообретенным царем.
Слово было сказано. Удовлетворенная Марина, милостиво кивнув народу, удалилась в свои палаты.
Доводилось ли вам сидеть в осаде? Нет? Что ж, вам повезло. А вот меня Господь два раза сподобил. Об ужасе, пережимом мною в Ярославле, я уж вам рассказывал, но тот ужас был короткий, как свист топора над склоненной на плаху головой. Во второй же раз суждена мне была пытка долгая, полуторагодичная, в голоде и холоде, и где — в Москве любимой, в Кремле родном! От этого страдания мои усиливались стократно.
I
ГЕНРИХ ЭРЛИХ

И вот что удивительно — оба раза терпел я напасти и страдания от любимых своих. В Ярославле — от племянника Ивана, в Москве — от ратников русских и казаков, пришедших освободить Первопрестольную от иноземцев. Но в Ярославле меня окружали столь же родные мне люди, все были заодно, там, на миру, сама смерть была нестрашна. А в Москве... Господи, с кем сидеть пришлось! Наверно, в преисподней да на каторге и то компания попалась бы честнее. Под защитой поляков собрались старые бояре во главе с князьями Мстиславским и Воротынским и новая знать, предводительствуемая Михаилом Салтыковым, Андреем Трубецким и Борисом Лыковым, на поляков уповали Иван Романов с Андреем Голицыным, в то время как их братья единокровные томились в плену у короля Сигизмунда. Тут же кожевенник бывший Федька Андронов, вошедший неожиданно в силу великую и захвативший ключи от казны царской, помыкал незадачливым претендентом на престол Мишей Романовым, радовавшимся, что Сигиз-мунд оставил ему звание стольника двора царского, пожалованное еще Димитрием; неистовый патриарх Гермоген сидел вместе с лукавыми архимандритами, купившими места свои у патриарха тушинского Филарета; наемники немецкие, перешедшие на сторону поляков во время последней битвы воеводы трусливого Дмитрия Шуйского, соседствовали с немногими русскими стрельцами, которые еще менее немцев понимали, кому и за что они служат. Никто никому не доверял, все смотрели друг на друга с подозрением и опаской, доносили беспрестанно о готовящейся измене единственной реальной власти — командиру поляков пану Гонсевскому и тут же, невзирая на смертельную угрозу внешнюю, продолжали плести
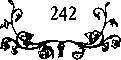
ийтриги и составлять ковы — воистину клубок змей ядовитых!
Царь Димитрий самозванец?
Глаза бы мои их не видели! Впрочем, и не видели. Я во все время осады, помнится, никуда из дворца не выезжал и никого не принимал. Даже из палат своих не выходил. Ведь в нашем старом царском дворце разместились поляки знатные, уподобив его двору постоялому. Всюду грязь и непорядок, вино и зернь, сквернословие и блуд, только ступишь ногой в сей вертеп, так сразу и оскоромишься. Я и не ступал, от греха подальше! Затворился в бывшем тереме княгинюшки моей незабвенной, там и выход был особый в небольшой садик, укрытый от взглядов любопытных, было где и самому ноги размять, и Ванюшу выгулять.
И как же жили? — спросите вы. Как выжили? — уточню я. Это надо с самого начала рассказывать, а то непонятно будет. И начинать не с первых дней осады, а немного поранее.
Шла предпоследняя неделя Великого поста. Николай вернулся из города весь переполненный слухами.
— Бают, что ополчение, наконец, к Москве двинулось, — начал он свой доклад, — из Калуги князь Дмитрий Трубецкой с детьми боярскими и стрельцами, да Ивашко Заруцкий с казаками, из Рязани Прокопий Ляпунов, из Владимира князь Лит-винов-Мосальский, из Костромы князь Федор Волконский, из Ярославля Ивашко Волынский. А некоторые уж и в Москву пробрались, верные люди, сказывали, что видели на Сретенке князя Дмитрия Пожарского.
— Славный витязь! — не мог сдержать я восклицания. — Нашего корня! Из князей Стародубских!
Народ весь в нетерпении, — продолжал между тем Николай,— скоро, говорят, поляков бить будем. Как разговеемся, так на второй али третий день все выйдем на бой святой.
— А что поляки? — спросил я.
— Нагличают все сильнее и в то же время стерегутся. Мало того, что запретили всем русским сабли носить и даже ножи, так они еще обыскали все лавки и забрали у купцов топоры, выставленные на продажу, а потом стали останавливать плотников, идущих на работу, и у них тоже топоры отымать.