Шопенгауэр был прав: сострадание отрицает жизнь, оно делает ее более достойной отрицания, – сострадание есть практика нигилизма. Повторяю: этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни: умножая бедствие и охраняя все бедствующее, оно является главным орудием décadence – сострадание увлекает в ничто!.. Не говорят «ничто»: говорят вместо этого «по ту сторону», или «Бог», или «истинная жизнь», или нирвана, спасение, блаженство… Эта невинная риторика из области религиозно-нравственной идиосинкразии оказывается гораздо менее невинной, когда поймешь, какая тенденция облекается здесь в мантию возвышенных слов, тенденция, враждебная жизни. Шопенгауэр был враждебен жизни – поэтому сострадание сделалось у него добродетелью… Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное и опасное состояние, при котором недурно кое-когда прибегать к слабительному; он понимал трагедию – как слабительное. Исходя из инстинкта жизни, можно бы было в самом деле поискать средство удалить хирургическим путем такое болезненное и опасное скопление сострадания, какое представляет случай с Шопенгауэром (и, к сожалению, весь наш литературный и артистический décadence от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера)… Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское сострадание. Здесь быть врачом, здесь быть неумолимым, здесь действовать ножом, – это надлежит нам, это наш род любви к человеку, с которой живем мы – философы, мы – гипербореи!..
8
Необходимо сказать, кого мы считаем своей противоположностью: теологов и все, что от плоти и крови теологов, – всю нашу философию… Нужно вблизи увидеть роковое, больше того – нужно пережить его на себе, почти дойти до гибели, чтобы с ним уже не шутить более (свободомыслие наших господ естествоиспытателей и физиологов в моих глазах есть шутка; им недостает страсти в этих вещах, они не страдают ими). Отрава идет гораздо далее, чем думают: я нашел присущий теологам инстинкт высокомерия всюду, где теперь чувствуют себя «идеалистами», где, ссылаясь на высшее происхождение, мнят себя вправе относиться к действительности как к чему-то чуждому и смотреть на нее свысока… Идеалист совершенно так, как и жрец, все великие понятия держит в руке (и не только в руке!); он играет ими с благосклонным презрением к «разуму», «чувству», «чести», «благоденствию», «науке»; на все это он смотрит сверху вниз, как на вредные и соблазнительные силы, над которыми парит «дух» в самодовлеющей чистоте: как будто жизнь до сих пор не вредила себе целомудрием, бедностью, одним словом – святостью гораздо более, чем всякими ужасами и пороками… Чистый дух – есть чистая ложь… Пока жрец, этот отрицатель, клеветник, отравитель жизни по призванию, считается еще человеком высшей породы, – нет ответа на вопрос: что есть истина? Раз сознательный защитник отрицания жизни является заступником «истины», тем самым истина ставится вверх ногами…
9
Этому инстинкту теолога объявляю я войну: всюду находил я следы его. У кого в жилах течет кровь теолога, тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно. Развивающийся отсюда пафос называется вера, т. е. раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища неисправимой лжи. Из этого оптического обмана создают себе мораль, добродетель, святость; чистую совесть связывают с фальшивым взглядом; освящая собственное мировоззрение терминами «Бог», «спасение», «вечность», не допускают, чтобы какая-нибудь иная оптика претендовала на ценность. Везде откапывал я инстинкт теолога: он есть самая распространенная и самая подземная форма лжи, какая только существует на земле. Все, что ощущает теолог как истинное, то должно быть ложным: в этом мы почти имеем критерий истины.
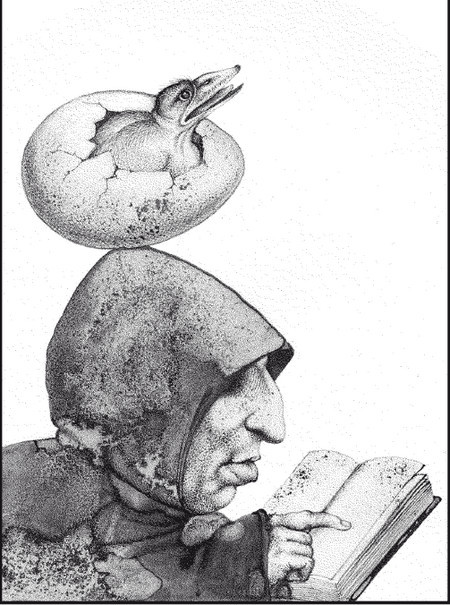
Его глубочайший инстинкт самосохранения запрещает, чтобы реальность в каком бы то ни было отношении пользовалась почетом или хотя бы просто заявляла о себе. Поскольку простирается влияние теологов, постольку извращается оценка, – необходимо подмениваются понятия «истинный» и «ложный»: что более всего вредит жизни, то здесь называется «истинным»; что ее возвышает, поднимает, утверждает, оправдывает и доставляет ей торжество, то называется «ложным». Если случается, что теологи, путем воздействия на «совесть» государей (или народов), протягивают руку к власти, то мы не сомневаемся, что собственно каждый раз тут происходит: воля к концу, нигилистическая воля волит власти…
10
Немцам сразу понятны мои слова, что кровь теологов испортила философию. Протестантский пастор – дедушка немецкой философии, сам протестантизм – ее peccatum originale[4]. Вот определение протестантизма: односторонний паралич христианства – и разума… Достаточно сказать слова «тюбингенская школа», чтобы сделалось ясным, что немецкая философия в основании своем – коварная теология… Швабы – лучшие лжецы в Германии, они лгут невинно… Откуда то ликование при появлении Канта, которое охватило весь немецкий ученый мир, состоящий на три четверти из сыновей пасторов и учителей? Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор находящее свой отзвук, что с Кантом начался поворот к лучшему? Инстинкт теолога в немецком ученом угадал, что теперь снова сделалось – возможным… Открылась лазейка к старому идеалу; понятие «истинный мир», понятие о морали как сущности мира (два злостнейших заблуждения, какие только существуют!) – эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более не опровергаются…. Разум, право разума сюда не достигает… Из реальности сделали «видимость», из совершенно изолганного мира, мира сущего, сделали реальность… Успех Канта есть лишь успех теолога. Кант, подобно Лютеру, подобно Лейбницу, был лишним тормозом для недостаточно твердой на ногах немецкой честности…
11
Еще одно слово против Канта как моралиста. Добродетель должна быть нашим изобретением, нашей глубоко личной защитой и потребностью: во всяком ином смысле она только опасность. Что не обусловливает нашу жизнь, то бредит ей: добродетель только из чувства уважения к понятию «добродетель», как хотел этого Кант, вредна. «Добродетель», «долг», «добро само по себе», доброе с характером безличности и всеобщности – все это химеры, в которых выражается упадок, крайнее обессиление жизни, кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное: чтобы каждый находил себе свою добродетель, сбой категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает свой долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий «безличный» долг, всякая жертва молоху абстракции. – Разве не чувствуется категорический императив Канта как опасный для жизни!..
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.