Свенгали, услыхав Онорину в кафе «Ломовых извозчиков» на улице Летучая Лягушка, вызвался учить её пению. Она пришла в его мансарду, и он сыграл ей на рояле, причём строил ей глазки, скалил зубы и глядел на неё в упор наглым пронизывающим взором. В ответ она мгновенно прониклась благоговейным обожанием к своему выдающемуся новому знакомому.
Он пленил её воображение и слух. Образ его наполнил её мелочную, слабую, жалкую душонку, он показался ей вдохновенным библейским пророком и героем, бряцающим на кимвалах, бьющим в тимпаны – одновременно и Давидом и Саулом!
А он начал прилежно учить её, вначале милостиво и терпеливо, осыпал ласкательными именами, называл своей «Розой Саронских долин», «Жемчужиной Вавилона», «Иерусалимской ласточкой с глазами газели» и сулил, что она станет повелительницей всех соловьёв – лучшей певицей в мире.
Однако ему предстояло отучить её от прежних навыков. Дыхание, постановка голоса, звук – всё было неправильным. Она работала неустанно, чтобы угодить ему, и вскоре начисто забыла те привлекательные певческие уловки и интонации, которым научила её сама природа.
Хотя слух у неё был изумительный, она не обладала подлинной музыкальной одарённостью. Во всём, что не касалось чисто материальных благ, она была тупицей, а пела (Свенгали далеко не сразу понял природу её голоса) так же естественно, как щебечут птицы, как свистит певчий дрозд, – от избытка здоровья, молодости и весёлого настроения. Этим же объяснялась и её красота – задорная и манящая.
Она старалась изо всех сил, упражнялась, когда только могла, и пела до хрипоты, недосыпая и недоедая. Он становился всё более грубым, нетерпеливым и придирчивым, обдавая её холодом, и в ответ она, конечно, полюбила его с ещё большим пылом, а чем сильней была её любовь к нему, тем чаще она нервничала и тем хуже пела. У неё пропал голос, она стала фальшивить, её попытки вокализировать производили почти столь же гнетущее впечатление, как и пение Трильби. Тогда он окончательно охладел к уроками: стал обрушиваться на неё лавиной праведного гнева, ругался, пинал её, щипал своими длинными костлявыми пальцами, пока она не начинала плакать навзрыд ещё горестнее, чем Ниобея. В довершение всего он занимал у неё деньги, брал по целых пять франков, не гнушаясь и более мелкой монетой, но никогда не возвращал ни гроша. Свенгали запугивал её и мучил до тех пор, пока она чуть не рехнулась от любви к нему и, чтоб доставить ему минутное удовольствие, готова была выпрыгнуть из окошка шестого этажа его мансарды!
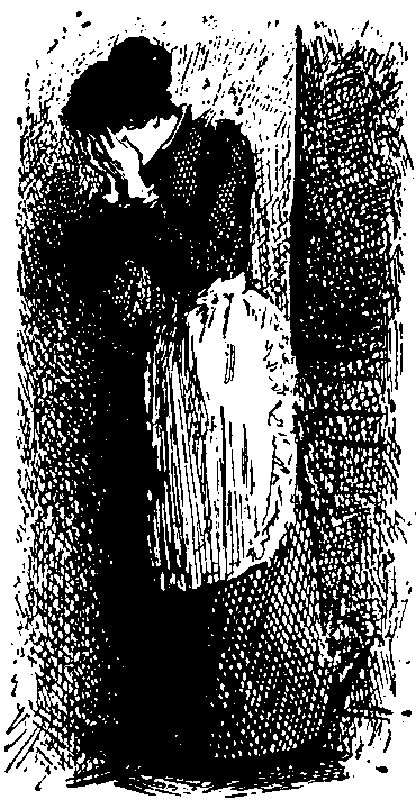
Он не изъявил к этому желанья – ему это не пришло в голову и вряд ли доставило бы удовольствие. Но в одно прекрасное субботнее утро он взял её за шиворот и вытолкал за дверь, пригрозив ей строго-настрого не сметь попадаться ему на глаза, а не то он обратится в полицию, – для таких, как Замарашка Мими, это было ужасной угрозой!
Ведь все эти пятифранковики, которыми она старалась оплатить свои уроки пения, так негаданно свалившиеся ей на голову, появлялись у неё не за то, что она всего лишь позировала художникам, не правда ли?
И вот «Иерусалимская ласточка с глазами газели» вернулась к разбитому корыту – серенькая пташка парижских трущоб, с помятыми крылышками и разбитым сердцем, – а петь она больше не могла, как не поют воробьи или сороки, – перестала петь навсегда.
Но довольно о бедняжке Онорине.
На следующее утро после её изгнания Свенгали проснулся у себя на чердаке со страстной жаждой приятно провести денёк – было воскресенье, и погода стояла чудесная.
Он дотянулся до жилета и штанов, валявшихся на полу, и высыпал содержимое их карманов на рваное одеяло: ни серебра, ни золотых, ничего, кроме нескольких мелких монет, которых едва хватило бы на весьма скудный утренний завтрак!
Накануне он обобрал Джеко и истратил за одну ночь все его деньги (целых десять франков) на кутёж, в котором Джеко не принимал участия. Он не мог придумать, у кого бы ещё занять, кроме как у Билли, Таффи и Лэрда: последнее время он редко бывал у них и давно их не грабил.
Поэтому он напялил на себя одежду и, всмотревшись в осколок тусклого зеркальца, нашёл, что хотя лоб его, пожалуй, чист, но глаза и виски помяты и чем-то сильно запачканы. Налив чуточку воды из маленькой кружки в мисочку, он обмотал вокруг грязного указательного пальца уголок носового платка, осторожно помочил его и вытер лицо. Считая, что руки могут обойтись без мытья ещё день-два, он запустил пальцы в свою косматую чёрную гриву, откинул её за уши и придал ей волнистый изгиб, который ему очень нравился (и крайне не нравился его приятелям-британцам). Затем он надел берет, накинул плащ и вышел на залитые солнцем улицы, всей грудью вдыхая аромат весны, свободу и светлую радость этого воскресного майского утра в Париже.
Он застал Маленького Билли в небольшой цинковой ванне, орудовавшего мылом и губкой. Это зрелище так озадачило и заинтересовало его, что на минуту он даже позабыл, зачем пришёл.
– Господи! На кой чёрт вы это делаете? – спросил он на ломаном немецко-французском диалекте.
– Делаю что? – спросил Маленький Билли на своём франко-английском.
– Сидите в воде и забавляетесь куском мыла и губкой?
– Да просто стараюсь стать чистым!
– Ах, вот что! А как же вы делаетесь грязным?
На этот вопрос Маленький Билли не мог найти сразу подходящего ответа и продолжал заниматься омовением, отфыркиваясь и брызгаясь, с энергией, свойственной англичанам, а Свенгали долго и оглушительно смеялся, глядя, как маленький британец «пытается стать чистым»!
Когда Билли наконец достиг желанного предела чистоты, возможной при данных обстоятельствах, Свенгали попросил у него взаймы двести франков, и Билли дал ему пять.
Удовольствовавшись этой суммой за неимением лучшего, Свенгали спросил, когда Маленький Билли намерен «чиститься» снова, так как он хотел бы присутствовать и посмотреть ещё раз, как это делается.
– Завтра утром я к вашим услугам, – сказал Маленький Билли, отвешивая почтительный поклон.
– Что? И в понедельник тоже? Вы моетесь каждый день?
Громко смеясь, он выкатился из комнаты и смеялся на всём протяжении своего пути до улицы Сены, где жил Таффи, которого он решил сначала позабавить рассказом о чудаке Билли, радеющем о своей чистоте, а затем перехватить у Знатного Малого ещё франков пять, а то и десять.
Как, вероятно, догадался читатель, он застал Таффи тоже в ванне. У Свенгали сделались конвульсии от смеха, он корчился, кривлялся, хватался за бока и тыкал пальцем в огромного голого бритта, пока, наконец, Таффи не оскорбился и не вышел из себя.
– Какого чёрта вы гогочете, свинтус вы этакий! Хотите, чтобы я вас за окошко вышвырнул? Грязная швабра! Погодите-ка! Я вам намылю голову!
И Таффи выскочил из ванны. Он выглядел как Геркулес в пылу праведного гнева. Свенгали струсил и обратился в бегство.
– Проклятье! – восклицал он на ходу, кубарем скатываясь вниз по узкой лестнице отеля «Сена». – Ну и дубина! Мерзкий грубиян! Безмозглый, тупой британец, чёрт бы его побрал!
Он приостановился в раздумье.
«Надо бы сходить теперь к шотландцу на площадь св. Анатоля за вторым пятифранковиком. Но пережду немного, чтобы он успел помыться и просохнуть!»
Свенгали зашёл перекусить в молочную на улице Клопэн-Клопан и там, чувствуя себя в безопасности, хохотал долго и неудержимо.
Два голых англичанина – большой и маленький – в один и тот же день «стараются стать чистыми»!
Он самодовольно считал, что поступает разумнее их, и, со своей точки зрения, возможно, был прав: ведь за одну неделю можно выпачкаться не меньше, чем за целую жизнь, так стоит ли из-за этого волноваться? К тому же, если вы достаточно чистоплотны для тех, кто вас окружает, быть более чистоплотным, чем они, – невежливо, бестактно и глупо.
Как раз в ту минуту, когда Свенгали собирался постучать в дверь к Лэрду, по лестнице из мастерской Дюрьена спускалась Трильби. У неё был измученный вид, глаза с покрасневшими веками были обведены тёмными кругами, лицо, усыпанное веснушками, побледнело.