Джонатан Стоун
Институты русского модернизма. Концептуализация, издание и чтение символизма
Посвящается Мелани, Тоби и Риви
Благодарности
Лучшие консультанты знают, что слушать так же важно, как и говорить; лучшие наставники отдают общению столько же сил, сколько собственно руководству; а лучшие читатели способны усовершенствовать ваш текст, позволив увидеть написанное со стороны. Мне выпала удача получить помощь многих замечательных наставников, консультантов и читателей, но особенно я обязан двоим. Поддержка Майкла Вахтеля и его внимательное отношение к моему проекту ободряли меня на протяжении всей работы. Ирина Паперно стала для меня постоянным источником знаний и безупречным воплощением научной щедрости и человеческой доброты. Я безмерно признателен им обоим.
Перечисленные ниже учителя, коллеги и друзья давали мне бесценные советы, опору и вдохновение во все долгие годы моих занятий литературоведением. Они составляют клуб, быть принятым в который я – в противоположность Граучо Марксу – горжусь: это Кэрол Юленд, Джованна Фалескини Лернер, Кэрри Лэндфрид, Скотт Лернер, Роберт Хьюз, Джоан Дилейни Гроссман, Эрик Найман, Билл Тодд, Николай Богомолов, Кэрил Эмерсон, Илья Виницкий, Рейчел Андерсон-Рейберн, Дэнни Фриз, Ольга Матич, Харша Рам, Абрам Рейтблат, Ричард Густафсон, Ирина Рейфман, Лина Бернштейн, Стиляна Милкова, Лиляна Милкова, Кэт Хилл-Рейшл, Майк Куничика, Молли Брансон, Энн Дуайер, Женя Берштейн, Борис Вульфсон, Люба Гольбурт, Линдси Себаллос, Вероника Рыжик, Кэти Теймер, Петер Ярош, Женевьева Абраванель, Курт Бенцель и Дженнифер Редманн.
Отрывки из двух глав этой книги были с некоторыми изменениями опубликованы в качестве статей: «Делая символистскую книгу/Формируя символистского читателя: случай „Собрания стихов“ Александра Добролюбова» (Making the Symbolist Book / Fashioning the Symbolist Reader: The Case of Aleksandr Dobroliubov’s «Collected Verses» // Reading in Russia: Literary Communication and Practices of Reading, 1760–1930 / Ed. by D. Rebecchini and R. Vassena. Milan: Di/Segni, 2014); и «Александр Блок и подъем биографического символизма» (Aleksandr Blok and the Rise of Biographical Symbolism // Slavic and East European Journal. Winter 2010. № 54/4). Я благодарю редакторов SEEJ и Di/Segni за разрешение на перепечатку этих материалов.
Кроме того, я признателен за поддержку канцелярии проректора Колледжа Франклина и Маршалла, выделившей средства из Фонда факультетских исследований и профессионального развития и Фонда управления грантовыми ресурсами Колледжа. Мне также посчастливилось получить высокопрофессиональное содействие сотрудников издательства Северо-Западного университета – прежде всего Майка Ливайна, Энн Джендлер и Мэгги Гроссман – и финансовую поддержку Фонда Эндрю Меллона по направлению «Современный язык». Я благодарен и за то, и за другое.
Но глубже всего я признателен и обязан Мелани, Тоби и Риви. Время и труд, затраченные на создание этой книги, обретают смысл лишь благодаря тем радостным часам, которые я провел вместе с вами, когда не работал над ней. Вам я посвящаю эту книгу.
Введение[1]
Изданная летом 1895 года дебютная поэтическая книга скандально известного модерниста Александра Добролюбова, нарочито загадочно озаглавленная «Natura naturans. Natura naturata», вызвала бурный отклик у русских читателей. Петр Перцов вспоминал:
Первый сборник Александра Добролюбова … можно сказать, ошеломил критику и публику, как свалившийся на голову кирпич. Все в нем пугало, начиная с непонятного названия…[2]
Слова Перцова побуждают задуматься о становлении понятия «символизм» в литературном дискурсе, о смысле применения термина «символистский» как к материальным, так и нематериальным репрезентациям раннего русского модернизма. Для этого необходимо исследовать подобные «свалившиеся на голову» моменты – задача, которая оказывается неразрывно связанной с вопросом о публике и месте читателя в русском символизме. Такие вопросы не перестают возникать на протяжении всей истории этого важного литературного течения: для России символизм явился точкой входа в художественный модерн. Зародившись в середине 1890‐х, уже к 1910 году он объявил о своем кризисе, но еще не одно десятилетие продолжал жить в творчестве и мемуарах российских писателей. Сознательно управляя чтением и восприятием своих произведений, группа практиковавших это новое искусство поэтов сумела систематизировать и институционализировать свою эстетику.
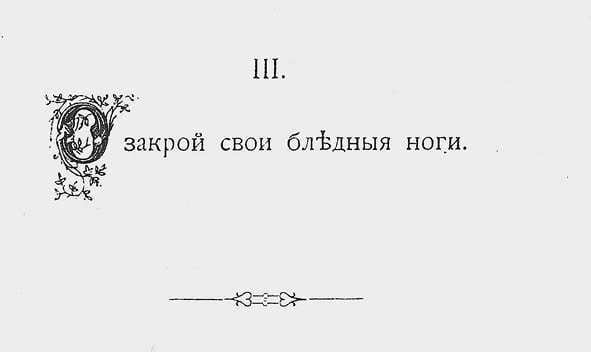
Ил. 1. Стихотворение Валерия Брюсова «О закрой свои бледные ноги» в третьем выпуске «Русских символистов» (1895)
Молодые и смелые русские поэты середины 1890‐х годов, называвшие себя символистами, знали толк в привлечении внимания. В выпуске их группового альманаха «Русские символисты» 1895 года было напечатано стихотворение, послужившее беспроигрышной приманкой для рецензентов и критиков: «О закрой свои бледные ноги». Этому моностиху Валерия Брюсова суждено было определить критическую рецепцию символистской – брюсовской и не только – поэзии на годы вперед. Его сознательная провокационность задела ту часть русской публики, которая была настроена высмеивать и принижать нарождавшиеся модернистские тенденции, теперь проникшие и на русскую почву. Целями летевших в эту поэзию камней нередко становились ее противоречивый стиль и образность. И все-таки одному из первых рецензентов удалось нащупать важный аспект становления и концептуализации символизма в России. Вот как этот анонимный критик из «Русского листка» предлагал исправить – и одновременно объяснял – брюсовское одностишие: «„О, закрой эту книжку, читатель!“ Так же коротко, но много яснее»[3].
Эта острота отразила один часто упускаемый из виду факт: для того чтобы завладеть вниманием публики и критиков, символистские стихи должны были сначала проложить себе дорогу в печать и достичь читателя. Уже самим своим физическим расположением в книге – орнаментированной буквой «О» и обилием пустого места вокруг этих пяти слов, кроме которых на странице больше ничего не было, – брюсовский моностих стремился как можно сильнее поразить читателя (см. ил. 1). Подобная экономность придает странице подчеркнуто поэтический характер, как бы утверждая разницу между чтением стихов и чтением прозы. Однако дать оценку самому стиху затруднительно. В шутку это написано или всерьез? Возмутительно это или восхитительно? Как конвенциональный вид страницы соотносится с помещенной на ней неоднозначной строчкой? Во всех аспектах подготовки книги: написании, редактуре, финансировании и печати – 21-летний Брюсов умышленно добивается такой неопределенности. Фигура Брюсова, принадлежавшего к числу и первых, и последних русских символистов, – важный фокус «Институтов русского модернизма». Брюсов деятельно участвовал в создании символизма на всех уровнях. Его многочисленные роли: поэт, редактор, издатель, организатор, читатель и покровитель – сделали его центральным узлом сетей, из которых складывался русский символизм. Мой рассказ о символизме ведется через призму этих ролей, а Брюсов раз за разом оказывается в центре внимания. Обширный вклад Брюсова в концептуальные и материальные выражения русского символизма позволяет говорить о нем как о движущей силе всего течения.
Существование в России символизма проявлялось по-разному: в издательской динамике; в наличии сетей, которые, связывая поэтов и читателей, формировали восприятие модернизма; и в процессах репрезентации и оценки нового искусства. Уже сам факт, что читатель мог открыть или закрыть томик русской символистской поэзии, для 1895 года был значительным достижением. Те первые книги, с которых началось взаимодействие символизма с российским обществом, напоминают нам о важнейшей роли, которую символистская материальная культура будет играть на протяжении всей истории русского модернизма. Брюсовское одностишие, отнюдь не сводимое к простой провокации против гражданственной русской поэзии конца XIX века, стояло на пороге кардинальных перемен в производстве и потреблении литературы в России. Воплощением указанного сдвига станет переплетение концепций символистской книги и читателя-символиста.