Сам же Геранёнский замок долгое время славился во всем Великом Княжестве Литовском. Гаштольды владели им до 1542 года, потом он перешел к королю Жигимонту I, а от него — к Жигимонту II Августу. Во второй половине XVI века в Геранёнах состоялись несколько съездов шляхты Польши и Литвы с целью достижения договоренности относительно кандидатуры на «должность» короля польского и великого князя литовского.
А осенью 1543 года 24-летний великий князь Жигимонт II Август, покинув свою резиденцию в Вильне, отправился осматривать соседние владения своих вассалов. Кроме довольно скучного разбора жалоб и взаимных претензий местных магнатов и шляхты, молодой государь собирался развлечься на организованных в его честь многочисленных охотах и балах. Одним из официальных дел, которое был обязан решить Жигимонт Август во время своей поездки, был вопрос об огромном наследстве угасшего магнатского рода Гаштольдов. Последний представитель этого рода по мужской линии трокский воевода Станислав Гаштольд умер в декабре 1542 года в возрасте 35 лет, не оставив наследника. По тогдашним законам, имущество рода в этом случае переходило великому князю, который и должен был решить его дальнейшую судьбу. В Геранёнах на тот момент жила вдова Гаштольда, 21-летняя Барбара из славного рода Радзивиллов (её отцом был киевский воевода, виленский каштелян, великий гетман литовский Юрий Радзивилл). Художники оставили множество портретов высокой золотоволосой красавицы с бездонными глазами, нежной кожей и грациозной фигурой. Барбаре Радзивилл также были присущи чувство юмора, острый ум и прекрасное образование.
Надо сказать, что великий князь был знаком с четой Гаштольдов, но на пышных балах в Вильне он поначалу не обратил на Барбару особого внимания. И только прибыв в Геранёны, Жигимонт Август был сражён наповал роковой красавицей, которую некоторые из современников именовали второй Еленой Троянской. Если верить тогдашним завистникам Барбары, она отнюдь не отличалась пуританским нравом и за 10 месяцев своего вдовства успела сменить 38 любовников, среди которых были не только окрестные шляхтичи, но и крестьяне, конюхи и даже монах местного монастыря.
Совместные поездки на охоту и прочие увеселения настолько сблизили Жигимонта с прекрасной вдовой, что даже после отъезда государя из Геранён они виделись практически регулярно. Барбара Радзивилл переехала к своей матери в Вильню. Геранёнская резиденция оказалась на время заброшенной, а отношения с Жигимонтом Августом получили бурное продолжение. Хотя князь был женат, но его страдавшая эпилепсией супруга Елизавета Австрийская не шла ни в какое сравнение с юной пылкой Барбарой. Поэтому сразу после смерти жены в 1545 году их отношения стали носить практически открытый характер, и через два года, несмотря на протесты панов и матери князя — Боны Сфорца, они поженились.
Барбара Радзивилл
В 1548 году умер отец Жигимонта, и великий князь добавил к своим титулам ещё и польскую корону. Но польская и белорусско-литовская аристократия не собиралась мириться с влиянием на молодого короля со стороны Радзивиллов и их сторонников. Оппозицию Барбаре возглавила сама королева-мать Бона. Как считают некоторые историки, именно с её «помощью» в 1551 году Барбара быстро угасла, отравленная сильным ядом. Вместе с тем ряд обстоятельств указывает на то, что причиной смерти могло стать и онкологическое заболевание.
Сходя с ума от горя и тоски по любимой, король обратился к алхимикам с просьбой вызвать ее душу. За такое деликатное поручение взялись реально существовавшие чернокнижники паны Твардовский и Мнишек[2]. Короля привели в полутемный зал, уставленный зеркалами, на одном из которых была во весь рост выгравирована Барбара в белой одежде. Ему даже хотели привязать руки к подлокотникам, чтобы он нечаянно не коснулся привидения, но тот отказался и дал слово, что будет вести себя спокойно. Однако когда призрак Барбары появился, Жигимонт всё же не сдержался и кинулся вперёд с криком «Басенька моя!». Раздался взрыв, по комнате пошёл резкий запах, а призрак растворился в темноте…
С тех пор душа Барбары обречена вечно скитаться между двух миров. Впрочем, для места обитания привидение избрало не Геранёнский, а Несвижский замок — родовое гнездо Радзивиллов. Появляется дух всегда только в черном одеянии в знак траура по своей загубленной жизни и любви. Считается, что таким образом дух предупреждает людей об опасностях — войнах или пожарах.
Фрагмент замковой стены в Геранёнах
При новом короле Речи Посполитой Стефане Батории замок в Геранёнах перешёл в собственность магнатского рода Сапег. Именно при них внутри замчища, на месте старого деревянного жилого корпуса был выстроен двухэтажный каменный дворец с черепичной крышей. Согласно более поздним описаниям, он имел 12 широких оконных проёмов, выходивших в замковый двор. На первом этаже располагались хозяйственные помещения, на втором — большой парадный зал и несколько жилых комнат.
Кроме того, для ускорения экономического развития данной местности ей в середине XVIII века король Август III даровал Магдебургское право. Геранёнский герб — пронзённое мечом сердце на зелёном фоне — был выбран не случайно. Он напоминал о великих событиях прошлого (в том числе о «любви века», как называли современники и потомки захватывающий роман Жигимонта Августа и Барбары Радзивилл).
Однако даже после этих преобразований Геранёны не вполне соответствовали значительно возросшим потребностям белорусских аристократов, которые предпочитали жить уже не за мощными валами и стенами, а в просторных и уютных дворцово-парковых комплексах. При таком подходе замок стал рассматриваться как второстепенный транзитный пункт пребывания, и как следствие этого — часто менял хозяев, постепенно приходя в упадок. Но даже сегодня оставшиеся фрагменты каменных стен Геранёнского замка, костёл, оборонительный ров и старые деревья образуют интереснейший историко-архитектурный ансамбль. Он производят неизгладимое впечатление на каждого, кто приезжает сюда впервые.
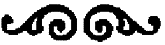
Чуть севернее, всего в двух километрах от белорусско-литовской границы, находится деревня Гайтюнишки, известная по письменным источникам с XVI века. Местное поселение, располагавшее жилыми домами, конюшнями, постройками хозяйственного назначения и огородами принадлежало роду Римшей. Затем в Гайтюнишках обосновался голландский эмигрант Пётр (Петер) Нонхарт, который укрылся от религиозных гонений на белорусских землях, славившихся веротерпимостью. Ведь еще в 1563 году правовое равенство протестантов с католиками и православными утвердил тогдашний местный аналог парламента, и эта норма была закреплена в Третьем Статуте Великого Княжества Литовского в 1588 году.
Нонхарт был одарённым инженером-архитектором, курировавшим ключевые вопросы зодчества в Вильне. Мало того, что голландец являлся толковым организатором, он был еще и весьма педантичным человеком. Сохранился отчет об использовании средств на строительство, в котором до мелочей расписаны все статьи доходов и расходов. Четко прослеживается и позиция руководителя — за более опасные или трудоемкие работы он платил весьма щедро, при этом обмануть себя на мелочах не позволял. В общем, за талант и оригинальный подход к реконструкции Виленского замка его даже называли «королевским будовничим».
А в Гайтюнишках Пётр Нонхарт при помощи форсификатора Ван Дадена спроектировал собственную резиденцию в виде замка, который не только выполнял функции жилого дома, но и надёжно охранял от вторжения незваных гостей.
Этот единственный сохранившийся в Беларуси дом-крепость, возведённый в 1613 году, издалека напоминает сказочный замок: белого цвета, окружённый величественными соснами и дубами, фланкированный четырьмя башнями с небольшими бойницами по углам, с флюгером на центральной башне, фамильным гербом над входом, сводчатым крыльцом… Под домом располагались подвалы, где для автономного водоснабжения был сделан колодец. На первом этаже размещался гарнизон в составе нескольких человек, а на втором и третьем этажах встроенной башни, имеющей отдельную лестницу, проживал сам владелец с семьей. По внешнему и внутреннему пространственному решению сооружение следовало традициям строительства усадебных домов в ВКЛ и Речи Посполитой XIV–XVI веков. Вместе с тем угловые эркеры, «суровость» экстерьера и отсутствие декора вполне соответствуют нидерландским правилам домостроения.