«…теперь, глядя на этот водопроводный кран в камере, он понимает, что смерть – в каких бы одеждах она ни приходила – это единственное, что имеет значение. Он открывает и не пьет, он просто глядит на струение воды, отвлекаясь от ее дребезжащего падения в раковину».
Напиться, напиться пивом. Наполнить резервуар своего тела лучистой, блестящей, пенной струей, услышать вульгарные шутки шоферов, захохотать, ковыряя вилкой в сосиске, выпить еще и еще, покачиваясь, отойти: «скажи-ка, дружок, чтоб не становились тут, сейчас я вернусь»; с кайфом опорожнить резервуар, радуясь напору струи, пытаясь сбить зазевавшуюся муху: «разве мы не самые сильные, не самые мощные?» – легким, как воздушный шар, снова вернуться и снова наполнить десять кружек, пятнадцать и двадцать, смыть к чертовой матери этот музей, гардеробщицу в фиолетовых перчатках, нет никаких ангелов, возрадуйся, Вакх, посмотри на эти пунцовые морды вокруг: «мокрый, а мокрый, а два барана смог бы ты разрубить?», «подумаешь, ерунда, ну даже если и засадят лет на восемь, ее же не расстреляют», «а я назло ему животом штангу в сто двадцать рву». Крикнуть им, что ли: «Я профессор, ребята! Я ваш профессор!» Крикнуть, свалиться под стол, шевелиться в этих объедках, рыбьих костях, бумажных тарелочках, среди ног их шуршать целлофаном, теряя глаза, хвататься за железные стойки, чтобы остановить этот круговорот, прав был Галилей, она вертится, вертится, значит, надо мычать: «Я лл-л-юбб-б-лю вв-а-ас, ду-у-ррр-а-ки! Я жже п-рр-офффе-е-ссо-рр!!!»
В пивную, конечно, в пивную. Только кто понесет его тело обратно, кто возвратит его бренное тело жене? Привезет на машине и доплатит шоферу за пьяную брань, поднимет на лифте, поможет доплыть в том шторме до лодки-постели, спустит левую ногу на твердое дно, поможет вцепиться в борта, чтобы не перевернуло, нн-е пп-пе-рревер-н-у-ллло? Кто? Конечно, Авдеев. Зря он что ли взял его в аспирантуру? Этот убогий, но физически крепкий Авдеев, к тому же он бывший мотоциклист, конечно, он донесет, ведь он, профессор, изобрел Авдееву хорошую задачку, и научил, как посчитать интеграл, и даже не стал себя вписывать в соавторы, хотя это же все его, конечно, его, но ведь нужны же рабы, перед собой зачем лицемерить. «Умный опирается на других и только потому не стареет». И потом, если Авдеев не будет его носить, то, следовательно, он не сможет пить. А если он не сможет пить, то он не сможет и заниматься наукой, потому что это единый процесс разрядки-зарядки. Кто же тогда будет двигать вперед науку? И кто изобретет Авдееву диссертацию? Нет, он сделает Авдеева кандидатом, и Авдеев будет носить, а если в милицию попадем (мало ли что), можно сбросить вину на Авдеева, а за это, если все обойдется, продвинуть его в доценты. Все это, конечно, задние, черные мысли, профессор совсем не думает их, наоборот, сам он «передний», добрый, светлый, хороший, сильный и мощный, и с аспирантами он «на ты», все любят его, а с авдеевыми это все почему-то само так выходит, ведь жизнь – это целостная штука, и все компенсируется в природе, и обмен существует, каждый меняет, что есть у него, чем владеет. Авдеев, Авдеев, как иначе тебе стать кандидатом? И кто сделает из тебя бизнесмена потом, кто поможет продать компьютер, наварить пару тысяч за вечер, ведь твои будущие кандидатские корочки – достижение только для твоей жены, и денег они совсем не стоят.
– Алло, Авдеев, привет, это Толик, твой научный руководитель, о-хох. Я тут забрел в какой-то дурацкий музей. Короче, не хочешь ли выпить?.. Что-что? Да брось ты, дети у всех. Один раз живем… Что? Давай на Таганке… О'кей, давай через час.
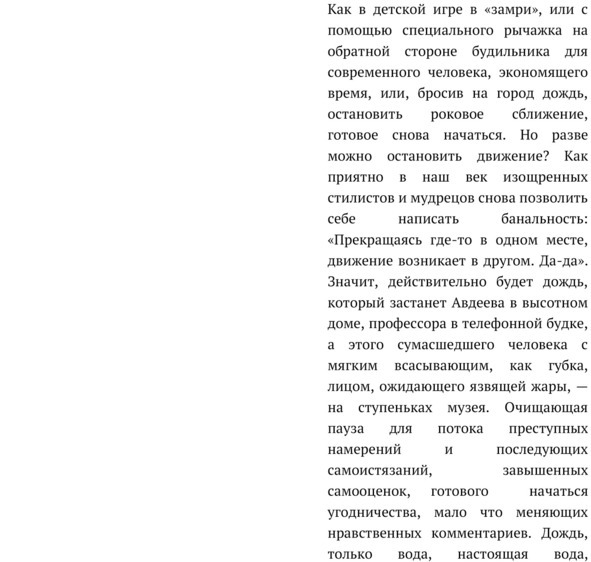
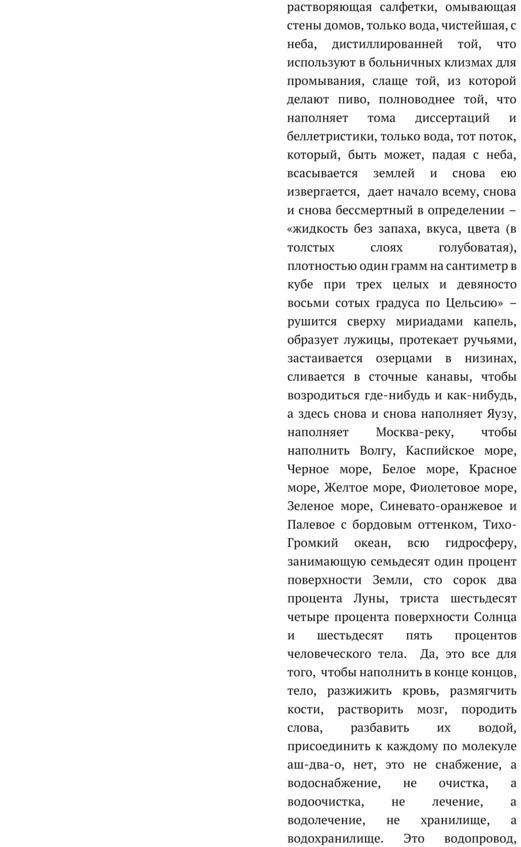

Авдеев остался в высотном доме. Но кончился дождь – люди-букашки выползли на мокрые тротуары. Скоро выйдет и он, Авдеев, а пока еще смотрит, кусая ногти, в окно с высокого этажа. Да нет же, дождь кончился, придется ехать. Трогательная кафедральная любовь к самому лучшему в мире профессору наливается трогательной многоэтажной ненавистью ко всякого рода барам, пивным, ресторациям и кафулям. Все течет, все наливается. Наливаешь белое, оказывается черное. Хочешь стать кандидатом – и путешествуешь по забегаловкам, ненавидимым с детства (отрицательный пример отца алкоголика и правильное воспитание матери). Слышишь сладострастный, словно из гроба, шепот жены, ощущаешь ее жаркие ниже пояса ласки: «Поезжай, поезжай, цель оправдывает средства, кандидат – это как-никак, это выше… не забудь ввернуть про компьютер, бизнес – это тоже как-никак». Эх, а хотел побегать трусцой, поподтягиваться на перекладине, поехать на работу и добросовестно посчитать (раз, два, три…) на персональном компьютере фирмы Ай Би Эм, общественно полезно потрудиться в профкоме (распределить, наконец, эти импортные туфли, пальто, сумки и свитера между страждущими сотрудниками). Черт бы побрал этого Толика с его выпивонами, опять тащить его на себе. И вечер тоже будет потерян, а хотел хоть немного пожить без семьи, запереться в шестьсот первой, когда все уйдут, отзвониться жене: «Лапочка, я еще немного задержусь на работе, надо кое-что еще Толику посчитать. Поцелуй бэбика в носик». И снова включить «пи-си», вставить дискетку с волшебной игрой и только пальцами, одними пальцами по клавишам заставить раздеться мультипликационную красотку Джейн (да почему мультипликационную? она же играет с тобой, как живая!), заставить ее и так, и сяк… Господи, какое это счастье – быть властелином в телевизионном пространстве, которое столько лет тебя гипнотизировало, а теперь и ты, и все только пальцами, с виртуозностью пианиста, и так, и сяк, а хочешь – убей: Alt-f – вызов палача; f4, Сtrl-k, f7 – и на экране меню: выбор средств от топора до специального велосипеда с бритвенно острым седлом; f8-Еnter – ну-ка, Джейн, прокатись напоследок… Авдеев – хороший, он любит семью, он любит газеты, он будет кандидатом, он будет бизнесменом, он будет начальником, а маленькие грешки, у кого же их не бывает, да ведь это все только игра, это даже не книга, воображаемое пространство, совсем не реальное, куда-то надо сбрасывать ненависть, может, это не Джейн, а Толик едет на велосипеде (кстати, можно ввести в компьютер его фотографию), вжик-вжик, смотри, натурально, как входит седло… Кончился дождь, снова звонит телефон: А, Толик, привет. У нас кончился тоже, сейчас выхожу. Что-что? Да с чего ты взял, что я занят? Один раз живем. С женой все о'кей. Что? Да самому давно уже хочется напиться в какой-нибудь забегаловке, к черту мундиры, только на этой неделе было четыре распродажи в профкоме. А? Конечно, самые мощные!»
Спуститься по ступеням, потому что кончился дождь, наверное, жарко не станет, но надо идти. Куда? Неизвестно. Но это, если оно существует (если существует судьба), найдет его само. Дождь кончился, жаль, он был в этом дожде другим, время дождя в нем протекало без слов, и чем-то иным, не словами, он почувствовал или ему показалось, или увидел вдруг в одной из капель, как на повороте, сразу весь вид: смешно и нелепо это его разбрасывание никчемных фраз, эти инфантильные игры, которым он предается по чьей-то воле, это бессмысленное сжигание времени, которое можно было бы отдать какому-нибудь делу, общей пользе, денежной выгоде, выращиванию семьи, всему тому, чем заполняют свою жизнь люди. Но дождь кончился, видение исчезло, остались лишь дыры луж в небо и ощущение измены самому себе, которое настигало и пронизывало новым бессмысленным потоком слов. Или его раскаяние осталось за спиной, там, за стеклянными дверями на белой стене с бордовым, словно облитым густеющей кровью, креслом в подножии? Словно тяжелый нож гильотины упал с высоты, и осталась лишь белая освещенная поверхность – не надо смотреть вниз, на окровавленное… нет, это не кресло. Что же осталось и что ждет впереди? Последняя стена с последними словами.