В числе тех, кого я здесь видел чуть ли не ежедневно, были и так называемые сутяги. Всю жизнь они только и делали, что вели тяжбы — с родственниками, с соседями, и даже с людьми, попавшимися на их жизненном пути совершенно случайно. Для них судебные учреждения стали чем-то вроде клубов. Здесь они встречались со знакомыми, судачили, узнавали новости. Один из таких сутяг, с очень характерной для него фамилией, Прицепкин, превратил сутяжничество в своего рода профессию, приносившую ему регулярный доход. Плешивый, с морщинистым лицом и гнилыми зубами, он ходил по базару и выискивал себе очередную жертву.
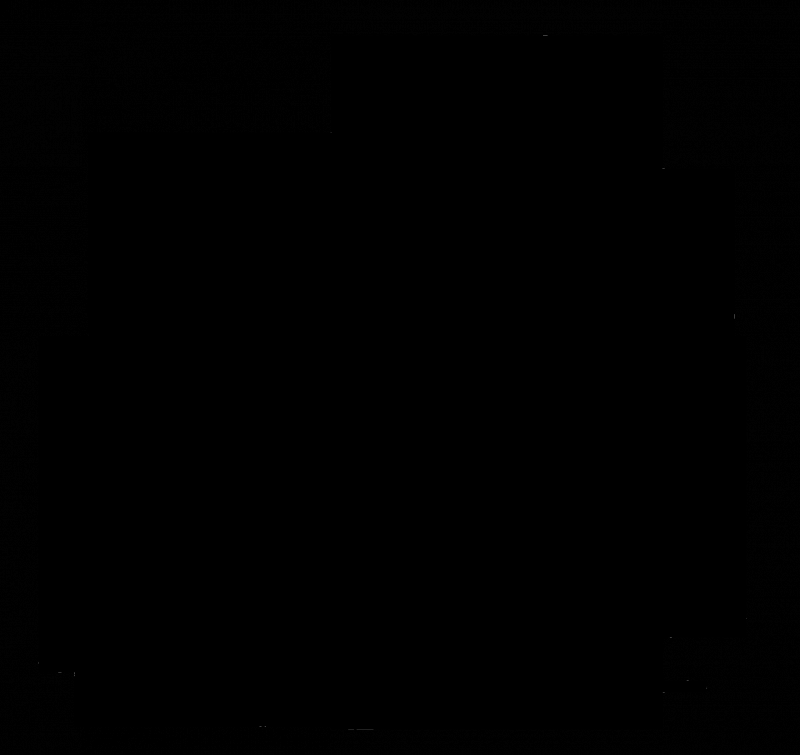
Нацелившись на какую-нибудь торговку погорластее, он подкрадывался к ней, склонялся к уху и шептал гнуснейшую гадость. Горговка вскакивала, как ошпаренная, и принималась на весь базар облаивать его. «Господа, — обращался Прицепкин к окружавшим их людям, — вы слышите, как она меня оскорбляет? Будьте свидетелями». И подавал на торговку в суд. Базар находился в участке мирового судьи Буряковского. К нему-то и поступало дело. У Буряковского был свой метод вести такие дела. Он говорил тяжущимся: «Я ухожу и вернусь через десять минут. Чтоб вы за это время на чем-нибудь сошлись. Не сойдетесь, обоим хуже будет». Обычно Прицепкин запрашивал с обидчиц от пятнадцати до двадцати рублей. Начинался торг, в конце которого сходились на пяти или семи рублях. «Вот и молодцы, что поладили», — говорил судья, довольный своим методом примирения сторон. Прицепкин клал в портмоне деньги и отправлялся с обидчицей в ближайший трактир пить мировую. Там, за отдельным столиком, торговка вполголоса высказывала ему все известные ей бранные слова. Прицепкин слушал, сочувственно кивал головой, даже поддакивал своей собеседнице и пил за ее здоровье.
Как Прицепкин вызывал торговок на оскорбление, знал весь город, в том числе и судья Буряковский. Тем не менее Прицепкин неизменно выигрывал дело. В кругу своих приятелей судья говорил: «Знаю: он мошенник. Но что шепчет этот мошенник торговке на ухо, никто не слышит, а как торговка кроет его последними словами, слышат все. Представьте, что я отказал бы плуту. Он передаст дело в съезд мировых судей. А там, приняв во внимание показания свидетелей, мое решение, как пить дать, отменят. Зачем же мне терять репутацию справедливого судьи?»
Через каждые два-три дня отец спрашивал меня: «Ну, Митя, как идут твои дела?» — «Все так же, — отвечал я. — Снимаю копии». Отец говорил: «Гм…» — и задумывался. Видимо, он все-таки недоумевал, как это могло получиться, что меня, изучавшего геометрию с алгеброй, естество знание и всеобщую историю, ни в чем больше не используют, как только в писании копий. Вначале он о Севастьяне Петровиче говорил: «Чудный человек, чудный!» Теперь, со свойственной ему особенностью переходить от восхищения к брани, раздраженно восклицал- «Черт бородатый! Будто не может посадить на что-нибудь посерьезней!» Я объяснял, что ничего более серьезного там нет. Тимошка повестки пишет, Касьян сидит на входящих и исходящих и подшивает бумаги к делу, Арнольд Викентьевич стучит на машинке. Вот только Севастьян Петрович ведет более серьезную работу — записывает в протокол все судопроизводство, но Севастьян Петрович не в счет: он — начальство. Вероятно, отец омнил, что и сам он, прослужив в канцелярии десятки лет, занимается тем же, чем и шестнадцатилетний недоучка Касьян: регистрирует бумаги и пришивает их к делу. Вздохнув, он переводил разговор на что-нибудь другое. Двадцатого числа Севастьян Петрович вынул из шкаа железную кружку и, похожий на крестьянина, собирающего подаяния для погорельцев, отнес ее в кабинет секретаря. К концу занятий мы поодиночке заходили к нашему страшному, сделанному из папье-маше начальнику и получали жалованье и братские. Братские — это содержимое кружки. Оно делилось между Арнольдом Викентьевичем, Касьяном, Тимошкой и мною пропорционально получаемому жалованью. Пошел и я. Секретарь придвинул ко мне мертвым пальцем кучку серебряных монет и сказал:
— Возьмите. Старайтесь.
Это были братские. Потом, отдельно, он выдал жалованье и велел расписаться.
Когда я вернулся в канцелярию, Арнольд Викентьевич возбужденно спросил:
— Сколько братских? Я сосчитал:
— Два рубля семьдесят копеек.
Лицо у Арнольда Викентьевича сморщилось в брезгливую гримасу:
— Какая подлость! Обкрадывать нищих! У этой мумии двухэтажный дом, он один получает жалованье вчетверо большее, чем я, Митя, Касьян и Тимошка, взятые вместе, и вот — не стесняется каждый месяц воровать из наших братских по пятнадцать — двадцать целковых! Какая подлость!
Севастьян Петрович покраснел, потупился и тихо сказал:
— Да ведь кто знает, сколько было в кружке? Может, это и не так…
— Я знаю, я! — стукнул Арнольд Викентьевич кулаком себя в грудь. — Все, что вы бросали в кружку, я вот на этом листке отмечал. Все, до гривенника! Шестнадцать рублей украл в этом месяце, чтоб ему подавиться ими!..
Касьян обиженно заморгал безресничными красными веками:
— Это он и мою трешку захарламил… Опять без штиблет остался…
— Вот возьму и наплюю ему в судок с мясом! — решительно пообещал Тимошка.
Но тут раскрылась дверь, и на пороге появился сам Крапушкин. Касьян побледнел, вскочил и отвесил поклон. Тимошка одернул рубашку, а Арнольд Викентьевич решительным шагом направился к своей машинке.
— Что здесь за шум? — шелестящим ровным голосом спросила мумия. — Почему нарушается тишина, надлежащая в государственном учреждении? Севастьян Петрович, ответьте.
Севастьян Петрович шумно вздохнул и, глядя вбок, уклончиво сказал:
— Поволновались немножко… Обувь вздорожала… Трудно с обувью приходится…
Все так же, не повышая голоса, мумия сказала:
— Надо не волноваться, а стараться… Кто старается, тот всегда обут. — Он постоял в ожидании, не скажет ли что-нибудь Севастьян Петрович или кто другой. Никто ничего не сказал, только у Арнольда Викентьевича вырвался из горла какой-то странный звук. — Что? — повернул к нему голову секретарь.
— Ничего-с, — с подчеркнутой почтительностью ответил Арнольд Викентьевич. — С вашего разрешения, я кашлянул. Прошу прощения.
— А… ну-ну… — сказала мумия и, обведя нас померкшим взглядом, медленно повернулась к двери.
Когда отец узнал, какую ничтожную плату я получил за две недели своей канцелярской службы, то сначала обругал Севастьяна Петровича старым козлом, а потом, после раздумий, сказал:
— Ну ничего, Митя, снимай копии, вникай во все хитрости судопроизводства, а тем временем готовься к- экзамену на звание частного поверенного. Как-никак это — профессия! До старости прокормить сможет, если проявишь в ней способности. Конечно, хором себе не построишь, да ведь нам министрами не быть…
Частный поверенный! Да, есть и такая профессия… За две недели я успел присмотреться и к частным поверенным. Попросту зовут их стряпчими. В большинстве это люди в поношенных пиджаках, порыжелых шляпах и стоптанных штиблетах. Выражение лица у них то униженно-просящее, то наглое. Они тоже «адвокаты», но без высшего образования, из «недоучек». Дела ведут мелкие с доверителей берут плату «божескую»: в два и три паза меньшую, чем присяжные поверенные. Потому и клиентуру их составляют люди небогатые — лавочники, ремесленники, мелкие домовладельцы. Присяжные поверенные их презирают, а они присяжных ненавидят и злорадствуют, если удастся выиграть дело у «высокообразованного» юриста. Помню, как торжествовали они, когда купец Литягов при всех срамил в канцелярии молодого щеголеватого помощника присяжного поверенного с университетским значком на борту визитки. «Стряпчий Мухобоев взял с меня пятерку, — говорил он, тряся бородой, — и высудил мне полторы тысячи, а ты загнул четвертную и прошляпил моих пятьсот целковых. Вертихвост!» Когда судебные дела «не наклевывались», частные поверенные подрабатывали тем, что по трактирам, а то и на базарных лотках писали простому люду разные прошения да заявления. Иные даже пузырек с чернилами носили при себе.