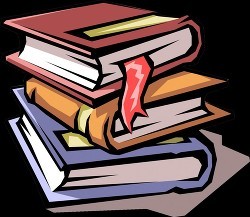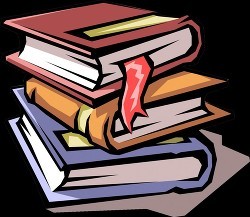Дед Хохряков, высокий, худой, в большом бараньем тулупе с огромным воротником, с большой торбой за плечами, шел по тракту не торопясь. Он опирался на клюку. Снег поскрипывал под валенками так звонко, что деду казалось, будто рядом с ним кто-то бренчит на балалайке. Под эту музыку приятно было обдумывать свою жизнь. Жил он всегда неплохо, и, если бы не война, грех желать лучшего. Но вот под старость снова надо хлопотать. Да... Мужики ушли на войну, нужно управляться в колхозе без них... Опять же своя есть забота, семейная. Из-за нее-то дед и напросился в город по общественным надобностям. Дело было в том, что весною внука его взяли на завод. Вначале Пахомка прислал письмо, и, как показалось деду, какое-то нехорошее, дед его не понял, и оно ему не понравилось. В ответном письме он выругал внука и уехал по наряду в лес на заготовки. Вернувшись в деревню, он отправил Пахомке еще одно письмо и на него опять не получил ответа.
Теперь дед беспокоился.
Шел он бодро, привычно отмахивая километр за километром, почти не останавливаясь. Тревожные мысли подталкивали его в спину. Шел он день, заночевал по пути в большом селе, шел часть ночи и так незаметно на вторые сутки дошагал до знакомого посада. Оттуда до города было уже рукой подать. Город лежал внизу, распластавшись, как блин на сковородке. На подъезде дорога была избита и посерела, точно камень. Тут вот дед и подсел на проезжавшие дровни. Поехал с оказией... Возчик-то оказался старым приятелем. День был морозный, с румяным дымом из труб, с инеем.
Возчик в брезентовом кожухе и огромной самодельной ушанке был одного возраста с дедом, и поэтому они понимали друг друга с полслова. Возчик не шел, а все время как-то подпрыгивал, будто козел, рядом с дровнями, чтобы согреться... Его бритое, вспухшее лицо стало лиловым от мороза. А бородатый дед сидел, не шевелясь, на каких-то ящиках, запахнув ноги тулупом, и даже не чувствовал холода.